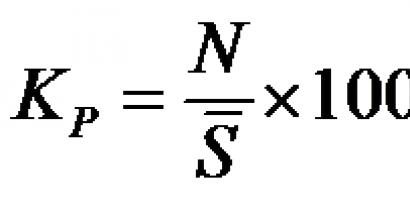О философско-символическом смысле образов природы в китайской поэзии. Философское вдохновение поэзии Снег с севера
Философское вдохновение поэзии
Этот долгий кризис, который мог стать фатальным для страны, обогатил Китай. Он позволил выявить и изучить как последствия интеллектуального спада, так и причины расстройства чувств, которые были характерны для Китая примерно с начала нашей эры, что очень сильно волновало умы. Постоянное беспокойство философов было вызвано разными причинами: то сожалениями о забвении древней простоты, то бичеванием правительств, неспособных к обновлению, то поисками мира во всеобщем презрении к политике. Так, Чжунчан Тун (родился в 180), советник Цао Цао, в своем произведении «О довольной душе» писал без обиняков: «Пусть будет дома у меня вполне хорошая земля, просторный дом, за ним гора, пред ним река, каналы, пруд со всех сторон, чтоб рос бамбук вокруг жилья, чтоб огород и ток на нем устроен был перед жильем, и сад фруктовый позади. Мне лодка и телега заменят совершенно ходьбу пешком иль переправу вброд, слуга, курьер вполне освободят мое все тело от работы. Чтоб прокормить родителей моих, найдется у меня все дорогое, все вкусное, что только мне возможно соединить в одних руках. Жена и дети у меня не знают никогда трудов, столь удручительных для тела. Хорошие друзья собираются ко мне, сидят, и я тогда даю им и вино и яства - все, чтоб им приятно было на душе. Когда же праздник, в добрый день и добрый час, я жарю поросенка и барана и тоже подаю на стол, друзьям с поклоном поднося. Иду и не иду своим я полем, огородом. Гуляю, развлекаюсь по лесам своим и долам. Купаюсь в прозрачной воде, бегу за прохладою ветра. Ужу проплывающих карпов. Беру на свою тетиву высоко летящих гусей. Ищу дуновений прохладных, как встарь, на ступенях алтарных при храме, и с пением песен домой иду, и в высокой зале сижу. Душой отдыхаю в своей семье. Мечтаю о темно-пустотном начале по книге философа Лао. Дышу полной грудью, вбирая в себя гармонию, лучшую в мире. Взыскую в душе подобия призрака высшего человека. Совместно с людьми, проницательно умными, я обсуждаю вопросы о Дао, верховном Пути человека, иль тексты с ними толкую. Я внизу на земле, я вверху в небесах, я живу среди этих великих двоих. Я сплетаю в уме, собираю в одно и людей и тварей земли. Заиграю на лютне мелодию классическую эту: „Юный ветер, благовонный ветер…” Издаст она чарующие звуки в отчетливо прекрасной гамме нот. И вот я в мечтах гуляю над всем населенным миром, бросаю случайные взгляды на небо и землю вокруг. Не подлежу я нареканьям людей, с которыми живу. Я сохраняю надолго себе срок жизни и судьбы. При жизни такой мне можно взлетать к небесам и Небесной Реке и выходить за всякие грани-пределы зримых нами миров. Зачем мне стремиться к тому, чтоб входить, выходить через двери царейгосударей?»
Литература, которая постоянно воспроизводила формы и образы классических авторов, казалось, перестала развиваться. Существовавшая проза была либо философской, либо моральной, причем она постоянно смешивалась с выступлениями государственных чиновников. Возрождение, начавшееся во II–III в. н. э., было вызвано отнюдь не литературой, а беседами, их называли «свободные и непринужденные разговоры» (цинтань ). Встречи, сопровождавшиеся такими беседами, получили особое распространение в конце правления династии Хань и играли роль, подобную нашим литературным салонам XVIII в.
Их инициатором был Го Тай (128–169), вокруг которого собрался кружок его друзей. Им доставляло удовольствие выступать против существующих философских основ и значимых людей империи. Это свидетельствовало о нигилизме, который с начала II в. н. э. царил в интеллектуальной сфере, подобные настроения только усугубляли и без того нелегкую ситуацию в государстве. Когда восставшие «желтые повязки» на своих мечах принесли те разрушения, которых все более многочисленные «собеседники» уже отчаялись дождаться, это породило фундаментальную проблему природы и существования человека, который случайно оказался под угрозой, помимо политических изменений. Вооруженные восстания, которые сопровождались бесчисленными примерами бандитизма, одновременно породили и глубочайшее отчаяние. Это отчаяние и доктрины даосизма, которые подвергали сомнению всё, кроме ценности личности, начали оказывать серьезное влияние на общество.
Религиозная пустота, которую нечем было заполнить, кроме безнравственности, и смятение людей, увидевших крушение своего мира, привели к тому, что сердца китайцев открылись для двух чувств, лишь слегка касавшихся их раньше, - лиризму и религиозной ревностности.
Конечно, люди во все времена передавали посредством поэзии и музыки радости и печали своей недолгой жизни. «Канон песен» («Ши цзин»), уничтоженный, как и все классические произведения, во время общего сожжения книг, предпринятого по приказу Цинь Шихуанди, сохранился в памяти людей благодаря ритму своих строк, состоявших из четырех или пяти слогов. Он был переиздан в правление династии Хань в многочисленных компиляциях, из которых до нас дошла только составленная Мао Чжаном. Также очень популярны были элегии Цю Юаня (343–277? до н. э.), родившегося в царстве Чу. Он до самой своей смерти выступал против ужасов клеветы. Легенда гласит, что Цю Юань был несправедливо изгнан и, отчаявшись вернуть себе милость правителя, в пятидесятый день пятидесятой луны бросился в реку около озера Дунтин. Каждый год состязания кораблей-драконов напоминают о моральных мучениях того, кого считали самым великим поэтом древности.
Однако ханьцы понимали, что эти древние поэмы потеряли свой смысл одновременно с падением древней власти. Сердца людей этого периода стали черствыми, они были подданными восхитительной, но очень строгой империи. Двор императора У наводил на него скуку, а официальная поэзия, увядший цветок прошедших веков, вообще приводила его в отчаяние. Около 120 г. до н. э. он основал Музыкальную палату (Юэ фу). Ее задачей был сбор народных песен и мелодий разных регионов страны, которые император рассчитывал добавить в строго фиксированный репертуар придворной музыки, тесно связанный с древними правительственными культами. Затем ученые из этой палаты разработали ритм для этих сельских песен. Примерно в I в. до н. э. им удалось ввести правила короткого пятеричного ритма (уянь ), которые сохранялись не только для музыки, но и для поэзии.
Тем не менее консерваторы строго осуждали появление новых мелодий в музыке и новых ритмов поэзии, которые бы отличались от мелодий, связанных с древними ритуалами. В итоге они добились победы, и в 7 г. до н. э. Юэ фу была упразднена.
К сожалению, до нас дошло очень мало примеров этой весьма изысканной поэзии периода Хань, хотя она глубоко укоренилась в сердцах простонародья. Тем не менее сохранилось истинное сокровище ханьской поэзии: это «Девятнадцать древних стихотворений», пронизанные меланхолией, которые повествуют о страданиях расставания и смерти, особых моментах человеческой жизни, когда не слышно больше крика. Это первые произведения, предвестники грядущего распада, трогательный голос народа, обреченного и разочарованного, потому что он не верит больше даже в эликсиры алхимии даоистов:
Я погнал колесницу
из Восточных Верхних ворот,
вижу, много вдали
от предместья на север могил.
А над ними осины как шумят, шелестят листвой.
Сосны и кипарисы
обступают широкий путь.
Под землею тела
в старину умерших людей,
что сокрылись, сокрылись
в бесконечно длинную ночь
И почили во мгле там, где желтые бьют ключи,
где за тысячу лет не восстал от сна ни один.
Как поток, как поток,
вечно движутся инь и ян,
срок, отпущенный нам,
словно утренняя роса.
Человеческий век
промелькнет, как краткий приезд:
долголетием плоть
не как камень или металл.
Десять тысяч годов
проводили один другой.
Ни мудрец, ни святой
не смогли тот век преступить.
Что ж до тех, кто «вкушал»,
в ряд стремясь с бессмертными встать,
им, скорее всего,
приносили снадобья смерти.
Так не лучше ли нам
наслаждаться славным вином,
для одежды своей
никаких не жалеть шелков!
Цао и поэты эпохи Цзяньань
Это поэтическое направление, в котором лирический размах элегий царства Чу, представленных поэзией Цю Юаня, соединялся с философской строгостью интеллектуальных кругов, возрождавших древние образцы народных стихотворений, позволило китайской поэзии избежать удушливых рамок ритуальной и трафаретной официальной литературы. В расколовшейся империи, в потрясенном изменениями Китае, именно оно сохранило достаточно гибкую просодию, которая позволила выплеснуться появившемуся вдохновению поэтов этого времени, без труда описывавших в своих произведениях лучшие из их идей.
Эти идеи имели два совершенно разных источника: размышления о политике и метафизический лиризм, в основе которого обычно лежало отчаяние. Развитие первой тенденции связывают с именами великолепного правителя Северного Китая Цао Цао и его сыновей - поэтов, которые состязались между собой. Развитие этого направления привело к формированию «ангажированного» литературного стиля, основной темой которого стало добродетельное и благородное негодование (канкай) при виде бедствий жизни. Это чувство, достаточно умеренно проявляющееся в поэзии Цао Цао, доверявшего собственной силе и эффективности своих действий, у его сыновей становится намного более мрачным.
В итоге их поэзия вдохновила на создание кружка, который позднее стал известен под названием «Семь поэтов эпохи Цзяньань» (196–220). Литература превратилась в изощренную игру красноречия, в науку рассуждения, искусно используя которую при удобном случае можно было изменить течение событий. Литературный метод заключался в том, чтобы изложить трогательную тему любви, разлуки и смерти посредством политических аллегорий. Вот как писал, например, Цао Чжи (192–232), третий сын Цао Цао и, без сомнения, самый великий поэт своего времени:
Ветер грусти
В башне одинокой -
Много ветра,
Ох, как много ветра!
Лес Бэйлинь
Уже в лучах рассвета,
Я печалюсь
О душе далекой.
Между нами
Реки и озера,
Наши лодки
Встретятся не скоро.
Дикий гусь
Душою предан югу,
Он кричит протяжно,
Улетая.
Весточку пошлю
На юг Китая,
Всей душою
Устремляясь к другу.
Взмахи крыльев
Чутко ловит ухо.
Птица скрылась -
Сердце стонет глухо.
Под меланхолической маской одинокого супруга скрывается поэт, человек дела, истерзанный политической опалой, которой его подверг собственный отец, позавидовавший его таланту. Эта элегия на самом деле является просьбой о помиловании.
Представители семьи Цао собирались вместе, чтобы пировать, сочинять стихи и разговаривать, играя понятиями и никогда не теряя надежды реорганизовать империю, избавиться от философов прошлого и открыть новые таланты. Их деятельность, особенно интенсивная с 212 до 217 г., в последние годы номинального правления династии Хань была внезапно прервана волной эпидемий, которая опустошила ряды их сторонников.
В это время, когда отказ от социального конформизма и поиск новых норм благоприятствовал развитию самовыражения личности, поэзия стала прибежищем сторонников такого взгляда на жизнь. Она передавала реакцию влиятельных индивидуальностей против обезличивания и стандартизации, к которым приводили как на практике, так и в теории различные идеологии власти. Эти же суровые и неспокойные годы способствовали расцвету лирической поэзии, находящейся в стороне от острых политических дискуссий. Ее постоянные темы напоминали о меланхолии от быстрого бега жизни, горечи разочарования, тяжестях судьбы и неотвратимой трагедии смерти. Единственным, что могло смягчить эти печали, был задор наслаждения текущим моментом, похожий на европейское carpe diem
Вихрь черный уносит чудесные дни.
В испуге мы видим, как время идет безвозвратно.
Счастье мгновенно и вряд ли вернется назад.
Жизнь хороша в роскошных пурпурных дворцах,
Но все же осколки ее лежат в усыпальницах горных.
Есть ли бессмертные в нашем кругу?
Знаешь судьбу - зачем огорчаться?
Так была передана «эпикурейская», хотя и пессимистическая философская основа того времени. Ярче всего она выражена в «Ле цзы», произведении III в., истоки которого недостоверная традиция возводит к Ле Юй-коу (450–375 до н. э.): «Жизнь дается нам так редко, а умереть в ней так легко! Можно ли забыть, что жизнь наша - редкий дар, а смерть в ней приходит так легко? Стараться же удивить людей строгим соблюдением правил благопристойности и долга, подавляя свои естественные наклонности ради доброй славы, по нашему разумению, даже хуже смерти. Мы желаем вполне насладиться дарованной нам жизнью и прожить ее целиком».
Семь мудрецов из бамбуковой рощи
Принципы отказа от мира и склонности к отшельничеству, постепенно возведенные в ранг официальной философии, были претворены в жизнь знаменитым кружком, который назывался «Семь мудрецов из бамбуковой рощи», бамбуковая роща - это маленький лес, расположенный к северу от Лояна. У семи товарищей было обыкновение собираться там, живя в свое удовольствие и щеголяя своим презрением к социальным нормам и общепризнанным идеям. Они ничего не ждали от мира, находили все, что нужно для жизни, сами и демонстрировали склонность к лени, лишь отчасти показную. Согласно легенде главой этого кружка был Цзи Кан (223–262), который скитался по горам, занятый сбором лекарственных трав. Он беседовал со своим другом Ван Лэем, отшельником, которому было 238 лет.
Правда была одновременно более яркой и более грустной. Цзи Кан был светским человеком во всех смыслах этого слова: младший брат одного из чиновников Сыма Яня, который, свергнув род Цао, захватил власть в стране Вэй, Цзи Кан был супругом принцессы из императорского рода. Если доходы Цзи Кана и защищали его от материальной нужды, то его связи с высшим обществом имели большее значение в его решении уйти от мира, так как он отказался играть ту роль, которую предписывал ему его ранг: «Трудно разбудить простой народ. Он никогда Не остановится в погоне за материальными вещами. Но совершенный человек смотрит дальше, он возвращается к природе. Все люди есть Одно. Вселенная - мое убежище. Я разделяю его с Другими, о чем же я должен сожалеть? Жизнь - это плывущее бревно: она появляется на мгновение и внезапно исчезает. Заботы и дела мира беспорядочны и запутаны. Забудем о них. Даже на болотах голодный фазан не мечтает о парках. Как могу я служить, утомляя свое тело и печаля свое сердце? Высоко ценят тело, а пустое имя презирают.
Нет ни славы, ни бесчестия. Самое важное - следовать своей воле и без раскаяния освободить свое сердце».
По мере того как Цзи Кан двигался трудными дорогами мистического мышления, он все больше оказывался в центре общественного скандала. Его поведение было вызовом образу жизни и вкусам чиновной среды. В 262 г. затруднительное положение его семьи дало конфуцианцам повод приговорить Цзи Кана к смертной казни. Враги написали против него обвинительную речь, о жестокости которой свидетельствует то, что она была направлена не столько против конкретного человека, сколько против его философии. Более того, главной мишенью стала даже не сама философия, а асоциальный образ жизни, к которому приводило следование ее канонам: «[Цзи Кан] отказывается служить правителям и повелителям. Он презирает свою эпоху, он не ценит мир. Он не несет никакой пользы для других людей. Бесполезный для нашего времени, он развращает наши нравы. Когда-то… Конфуций приговорил к смерти Шаочжэна Мао, потому что его люди, гордившиеся своими талантами, вносили в общество смуту, доставляя народу беспокойство. Если сегодня не наказать Цзи Кана, то других способов очистить государственное Дао уже не будет».
Цзи Кан, принявший смерть со спокойствием и жалостью к слепому миру, который от него отказался, очень скоро стал легендой: «Цзи Кан был осужден и посажен в тюрьму. Когда приблизилось время казни, его братья и семья пришли проститься с ним. Цзи Кан даже не изменился в лице. Он спросил своего брата: „Ты принес мне цитру?” Его брат ответил: „Да, я ее принес”. Цзи Кан взял ее, настроил и заиграл мелодию „Великий мир”. Когда он закончил, он сказал, вздохнув: „Великий мир умирает вместе со мной”».
Однако, помимо исполнения требований установленного порядка, господствующими в обществе понятиями стали «судьба», «рок»: неизбежность физической смерти, которая всегда заберет вас с собой тем или иным способом, невозможность отказаться от ее условий, необходимость для каждого смириться со своим уделом (фэнь), принять его - вот основа учения конфуцианцев. Вечные мечты даоистов о бегстве от смерти, о продлении жизни, о радости и о гармонии с природой постепенно исчезали. О суетности этих отчаянных поисков счастья грустно писал в своих стихах Жуань Цзи, самый известный, наряду с Цзи Каном, из «Мудрецов из бамбуковой рощи».
Под сенью деревьев красивых тропинка видна.
Раскинулись кронами персик и слива.
Но вот уже осени ветры на крыльях летят -
приходит листвы опадания время.
Увяли цветы, отцвели благодатные дни,
вьюнком и колючими ветками дом зарастает.
Я клячу свою погоняю
к подножию западных гор
и так беззащитен,
что дом и семью я иметь недостоин.
От инея ночью застынет листва на земле.
Все сказано, кончено, год пролетел -
не заметил…
Все же репрессии государства оказались не способны изменить естественный ход вещей. Чем более свирепыми были сражения, чем больше нарастала неуверенность в завтрашнем дне, тем больше чистые сердца испытывали потребность в увлеченности и искренности. Это исключительный момент, рождение настоящей лирической китайской поэзии, которая балансировала между глубиной чувств и красотой формы, - безукоризненное звучание, сочетавшееся с настоящим чувством и эстетическим совершенством содержания:
Не воротится время никогда,
не расцветут увядшие растенья:
цветет марсилия весной,
гардения в предзимье расцветает.
И жаль, что столько дней прошло,
а радости и нынче мало.
Так грустно.
Слышу стрекотание сверчка.
Вино прекрасно, пир веселый.
Коротка песнь моя
в предчувствии тьмы безмолвной -
это сказано совсем не строгим анахоретом, а человеком блестящей и беспокойной жизни. Речь идет о Лу Цзи (261–303), сыне чиновника из царства У, который был известным полководцем. Он заплатил своей головой за разгром, за который его безосновательно обвинили. Лу Цзи был примером традиционной для Китая универсальности, когда человек так же хорошо владел мечом, как и кистью. На него возлагались надежды страны, и одновременно он способствовал развитию новых форм и содержания китайской поэзии.
Тао Юаньмин
Китайская поэзия лучшими плодами своего расцвета была обязана Югу империи, стоит вспомнить хотя бы произведения Цю Юаня (343–277? до н. э.). Особенности природы и бурные проявления жизни создают на юге особые чары, которые невозможно найти на рациональном Севере. Вот почему Тао Цянь, так же известный как Тао Юаньмин или Тао Юаньлян (365–427), оказал глубокое влияние на последующие эпохи.
Неисправимый любитель простой жизни и деревни, певец хризантем и меланхолии, Тао Юаньмин был родом из провинции Цзянси. Его детство прошло в деревне, располагавшейся у подножия горы Лу, красота которой вдохновляла многих художников. Когда-то его род занимал самые высокие должности при дворе, но кто-то из его предков предпочел спокойную жизнь в своих сельских владениях величию и бедствиям власти. Тао Цянь и сам в молодые годы занимал государственный пост, для того чтобы увеличить свои небольшие доходы, но довольно быстро оставил его, несмотря на большую семью - детей, племянников, которых должен был содержать. Его дом превратился в место, где собиралось интереснейшее общество того времени, так как среди друзей Тао Цяня, высокого чиновника, превратившегося в простого землевладельца, были представители самых разных занятий: влиятельные должностные лица, буддийские священники, приверженцы даосизма и даже деревенские жители.
Таким образом, его произведения отражают основные тенденции времени. Тао Юаньмин обновил китайскую поэзию, используя простые, без прикрас, слова, которые он заимствовал из повседневного словаря. Он умер неизвестным, но сто лет спустя его произведения были включены в «Вэньсюань», официальную антологию лучших поэтов империи, так как новые поколения восхищались им как человеком, который в поэтической форме описал течение жизни во всей ее полноте.
Жар вина часто помогал ему, когда он оставался наедине со своей тенью. Только в пьянстве, а на Востоке оно было последним прибежищем искренности, он находил необходимую смелость, чтобы взглянуть на небытие, к которому, казалось, катилась вся его жизнь.
К ночи бледное солнце
в вершинах западных тонет.
Белый месяц на смену
встает над восточной горой.
Далеко-далеко на все тысячи ли сиянье.
Широко-широко
озаренье небесных пустот…
Появляется ветер,
влетает в комнаты дома,
и подушку с циновкой
он студит в полуночный час.
В том, что воздух другой,
чую смену времени года.
Оттого что не сплю,
нескончаемость ночи узнал.
Я хочу говорить -
никого, кто бы мне ответил.
Поднял чарку с вином
и зову сиротливую тень…
Дни - и луны за ними, -
покинув людей, уходят.
Так свои устремленья
я в жизнь претворить и не смог.
Лишь об этом подумал -
и боль меня охватила,
И уже до рассвета
ко мне не вернется покой!
На весеннем вине
ходят пенные муравьи.
Я когда же теперь
вновь испробую вкус его?
И подносов с едой
предо мною полным-полно.
И родных и друзей
надо мной раздается плач.
Я хочу говорить,
но во рту моем звуков нет.
Я хочу посмотреть,
но в глазах моих света нет.
Если в прежние дни
я в просторном покое спал,
то сегодня усну
я в травой заросшем углу…
Так я в утро одно
дом покинул, в котором жил,
дом, вернуться куда
никогда не наступит срок!
Так простыми, но искусными словами он передавал уроки народной мудрости. Глубоко пропитанный конфуцианством, он прославлял мудрецов древних эпох. Он сохранил принципы своего рода и всегда почтительно относился к правящему дому - династии Восточная Цзинь (317–420). От даосизма он заимствовал прежде всего свою непосредственность, а также искусство принимать вещи такими, какие они есть. В своих поэтических занятиях Тао Юаньмин нашел и свое оправдание, и свой конец. Он никогда не вел экстатических поисков согласия с Вселенной. Также он никогда не испытывал любопытства к буддизму, который еще в период правления династии Хань начал медленное продвижение в Китай по Великому шелковому пути.
Из книги Мир сложнее, чем мы думали автора Мулдашев Эрнст Рифгатович Из книги Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. автора Коллектив авторовИнспирация (лат. inspiratio - вдохновение, внушение) Одна из значимых категорий классической эстетики, означающая чаще всего внешний, более высокий духовный источник творческой деятельности, чем земная эмпирия; обычно - прямое воздействие на художника духовных сил (ангелов,
Из книги Страх влияния. Карта перечитывания автора Блум ХэролдТЕОРИЯ ПОЭЗИИ Уильяму К. Уимсотту ПРОЛОГ То БЫЛО ВЕЛИКИМ ЧУДОМ, ЧТО ОНИ ПРЕБЫВАЛИ В ОТЦЕ, НЕ ВЕДАЯ ЕГО И осознав, что выпал, вовне и вниз, из Полноты, он попытался вспомнить, что же была Полнота. И вспомнил, но обнаружил, что нем и не способен рассказать о ней другим. Ему
Из книги Погаснет жизнь, но я останусь: Собрание сочинений автора Глинка Глеб АлександровичВДОХНОВЕНИЕ Был злобным, но рыхлым Тьмы переполох. Бесшумно свет вспыхнул, Как молнии вздох. Бред бился без жалоб, К бессмертью стремясь. В испуге дрожала Поэтики вязь. Казалось, потухнет Сиянье огня И, словно на кухне, Начнется стряпня. Но в плавном размахе, Сквозь хаос
Из книги Семиосфера автора Лотман Юрий МихайловичСемантическое пересечение как смысловой взрыв. Вдохновение Проблема пересечения смысловых пространств усложняется тем, что рисуемые нами на бумаге кружки представляют своеобразную зрительную метафору, а не точную модель этого объекта. Метафоризм, когда он выступает
Из книги Статьи из газеты «Известия» автора Быков Дмитрий ЛьвовичВечер поэзии Ровно 10 лет назад был впервые отмечен Всемирный день поэзии. На ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО было торжественно объявлено, что поэзия может ответить на самые тонкие и сложные вопросы современного человека - надо только привлечь к ней его
Из книги Обратный перевод автора Михайлов Александр ВикторовичСовременная историческая поэтика и научно-философское наследие Густава Густавовича Шпета (1879–1940) Современная историческая поэтика - это, скорее, заново рождающаяся, нежели уже осуществившаяся научная дисциплина. Задача ее - не просто продолжить грандиозный для
Из книги Психология литературного творчества автора Арнаудов Михаил Из книги Загадки известных книг автора Галинская Ирина Львовна Из книги Театр мистерий в Греции. Трагедия автора Ливрага Хорхе АнхельИз поэзии трубадуров В поэзии трубадуров термином «coblas capfinidas» обозначалась одна из строфических форм. Она обязывала поэта связывать первый стих новой строфы с последним стихом предыдущей методом повтора (или так называемого «повтора в захвате») одного из его ключевых
Из книги Искусство Востока. Курс лекций автора Зубко Галина Васильевна10. Дионисийское вдохновение Античные комментаторы видели в произведениях Эсхила явную связь с Дионисийскими мистериями.Поправляя замечание Горгия* о том, что «Семеро против Фив» – это «драма, переполненная Аресом», Плутарх утверждал: лучше было бы сказать, что все
Из книги Индивид и социум на средневековом Западе автора Гуревич Арон ЯковлевичПуть поэзии Синто, Путь, которому следуют японцы, – это Гармония и Красота, проявляющиеся во всех сферах жизни японского общества. Конечно, главной сферой в этом отношении является искусство, впрочем, для японцев это может быть любая область, где манифестируется их
Из книги автораРыцарь в жизни и в поэзии Превращение раннесредневекового воина в рыцаря «классического» Средневековья, выражавшееся в обретении им высокого социального достоинства и соответствующего самосознания, было вместе с тем процессом его поэтизации, героизации и даже
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Китайская классическая поэзия
Китайская поэзия известна всему миру. На долю настоящего сборника пришлись века ее расцвета, века самых больших ее художественных достижений, века близости и внимания к жизни человека.
Что важно и наиболее привлекательно для нас в китайской классической поэзии? Необычность, национальная терпкость, все то, что отразила она из обычаев, мировоззрения, из природы и что отличает ее от всех прочих поэзии Востока и Запада. Если бы было только так, то ничего, кроме любопытства, и не вызывала бы она у неродного читателя. Но мы видим, как переводы прекрасных ее образцов притягивают к себе сердца. А это означает, что главное в китайской поэзии все-таки общечеловеческое ее начало, содержащееся в ней и до перевода скрытое от неподготовленного взгляда за таинственно-завораживающей орнаментальной стеной из иероглифов.
Так ли уж много надо знать, чтобы почувствовать красоту и естественность линий здания или вазы, углубиться в смысл нарисованной картины, если их создал гений далекого от нас народа? Здесь нет явственных преград между зрителем и объектом его любования, здесь и чужестранец может иной раз быть не меньшим ценителем, чем соотечественник художника. Поэзия же другого народа для общения с собой требует перевода слов и передачи мыслей, что всегда нелегко и что не всегда доступно. Благодаря переводу литературы стран и народов в совокупности своей с полным правом становятся литературой всего мира, то есть литературой общечеловеческой.
Благодаря переводу мы узнали и китайскую поэзию. И поняли, что национальное ее своеобразие есть лишь обрамление общих наших с нею дум и чувств. И, поняв это, без малейшего предубеждения, а скорее в ожидании новых радостей склоняемся над тем, что сумел донести до нас переводчик китайских поэтов.
И вот мы уже читаем стихотворения Цао Чжи, помещая его у входа в то в достаточной мере зыбкое пространство, которое называется средневековьем и начинается в III веке: в первых десятилетиях его творил выдающийся поэт. Следующая за Цао Чжи вершина китайской поэзии, может быть самая высокая, - Тао Юань-мин. Он потрясает нас неожиданной простотою слова, выразившего сильную мысль, определенностью и чистой бескомпромиссностью этой мысли, всегда направленной на поиски истины.
Так приближаемся мы к преддверию танского государства, с обилием поэтов, ум и искусство которых, кажется, и не могут быть уже превзойдены, но за ними следуют поэты сунские, с новым своим взглядом на мир, а там и юаньские, и минские, хотя и повторяющие многое, но одарившие историю китайской литературы свежими, самобытными индивидуальностями.
Не странно ли действительно, что путь в тысячу шестьсот лет от Тао Юаньмина (не говоря уже о сравнительно "близком" расстоянии от Ли Бо, Ду Фу, Су Ши, Лу Ю), не странно ли, что отдаленность эта не стерла волнений, пережитых поэтами, не помешала сочетать их с тревогами наших нынешних дней? Патина старины, легшая на светлую поверхность всех этих стихов, не заслонила бьющейся в них живой жизни. Стихи не потеряли своей увлекательности и не остались по преимуществу литературным памятником, как это произошло с рядом классических произведений мировой литературы.
Поэты старого Китая перед читателем. Они не требуют подробных рекомендаций и говорят о себе своими стихами. Мы же скажем о времени и обстоятельствах их творчества, а также о главных чертах его, обусловленных временем и обстоятельствами. Мы думаем, что достаточно одного лишь нашего направляющего движения для того, чтобы с полной силой зазвучала сама поэзия и рассказала о тех, для кого она творилась.
Стихотворения записаны иероглифическими знаками. Такова первая их особенность, которую можно было бы и не отмечать, так она очевидна. Но иероглифическая письменность делает и перевод иным, предоставляя ему большую свободу в выборе понятий и слов, стоящих за иероглифом. Мы ошибемся, если будем предполагать, как это иногда делается, что китайское стихотворение представляет собой живописное зрелище и само по себе является в некотором роде картиной. Такое предположение если не окончательная неправда, то уж, во всяком случае, огромное преувеличение, особенно для современного китайского читателя, видящего в иероглифе выражение понятия, и только, и забывающего о начале происхождения знака. Но понятие, объемлемое иероглифом, "многолико" и многословно, и, таким образом, китайское стихотворение, конечно, больше подчинено фантазии читателя, чем стихотворение, записанное фонетической азбукой. Переводчик - тоже читатель, и он выбирает одно из ряда доступных ему читательских толкований и предлагает его своему читателю.
О Ван Вэе и его поэзии
Китайская поэзия, одна из самых старых в мире, существует почти три тысячи лет. Она знала на своем долгом пути эпохи подъема и упадка, времена стремительных взлетов и открытий и века застоя с бесконечными перепевами однажды уже найденного. Первыми вехами на ее пути были "Книга песен" ("Шицзин") и "Чуские строфы" ("Чуцы"); позднее - народные песни, собранные чиновниками из "Музыкальной палаты" ("Юэфу"), и "Девятнадцать древних стихотворений", поэзия Цао Чжи (III в.) и Тао Юань-мина (IV-V вв.). Значение последнего особенно велико: по словам крупнейшего советского китаеведа академика В. М. Алексеева, этот поэт сыграл в китайской поэзии "роль нашего Пушкина" - его творчество в огромной мере определило развитие поэзии в последующие века и подготовило ее небывалый дотоле расцвет в эпоху Тан. В этот период (VII-Х вв.) наиболее полно и совершенно воплотились заложенные в китайской поэзии возможности. Тогда творила плеяда поэтов, не имеющая себе равных по обилию и разнообразию талантов ни в предыдущие, ни в последующие века развития китайской поэзии: Ли Бо и Ду Фу, Мэн Хао-жань и Бо Цзюй-и, Хань Юй и Лю Цзун-юань, Ли Хэ и Ли Шан-инь, Ду My и Юань Чжэнь и многие, многие другие. Пожалуй, лишь позднейшая, сунская эпоха (X-XIII вв.), эпоха Су Ши и Лу Ю, Синь Ци-цзи и Ли Цин-чжао, сопоставима с эпохой Тан. И одно из первых мест в этом перечне славных имен по праву принадлежит Ван Вэю, творчество которого, наряду с творчеством его великих современников Ли Бо и Ду Фу, стало одной из вершин танской, а следовательно, и всей китайской поэзии.
Как и всякий великий поэт, он был первооткрывателем, пролагателем новых путей. И если Тао Юань-мин, певец деревенского приволья, освободил поэзию от схоластической отвлеченности и вновь - через многие века после "Шицзина" - в полной мере приобщил ее к миру простых человеческих радостей, если Ли Бо сообщил ей могучий романтический импульс, если Ду Фу придал ей классическую строгость "На протяжении многих веков истории поэтического искусства, за индивидуальным многообразием поэтических форм, нам кажется существенным противопоставить друг другу два типа поэтического творчества. Мы обозначим их условно как искусство классическое и романтическое... Мы... говорим сейчас не об историческом явлении в его индивидуальном богатстве и своеобразии, а о некотором постоянном, вневременном типе поэтического творчества" (В. М. Жирмунский. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. "О поэзии классической и романтической". / Л.: Наука, 1977, С. 134).} и обогатил ее высокой гражданственностью, то Ван Вэй - величайший и вдохновеннейший из певцов природы.
О жизни Ван Вэя, как и о жизни многих других старых китайских поэтов, известно немногое - мы не знаем даже точных дат его рождения и смерти {Принято считать, что он родился в 701 г. и скончался в 761 г. По другим, менее достоверным, данным он родился в 699 г. и умер в 759 г.}. Он родился в Ци (нынешний уезд Цисянь в провинции Шаньси, находящейся в северо-западной части Центрального Китая), в семье чиновника. Поэтический талант обнаружился в нем очень рано, и к двадцати годам он уже создал некоторые из известных своих произведений, в их числе "Персиковый источник" - блестящее подражание прославленной поэме Тао Юань-мина, а также знаменитое, ставшее очень популярным четверостишие "В девятый день девятой луны вспоминаю о братьях, оставшихся к востоку от горы". В двадцать лет он сдал экзамены на высшую ученую степень цзиньши и получил при дворе пост музыкального распорядителя. Однако начавшаяся было успешно карьера вскоре внезапно прервалась: во время исполнения церемониального танца придворные актеры допустили какую-то оплошность, за что Ван Вэй был тут же отрешен от должности и сослан в захолустную приморскую область Цзичжоу в Восточном Китае, где и занял мелкий чиновничий пост.
Лишь десять лет спустя он вновь появляется в столице и поступает на службу к влиятельному сановнику Чжан Цзю-лину. Но уже через несколько лет Чжан Цзю-лин, просвещенный и дальновидный министр, заботившийся об интересах страны и о привлечении к государственным делам талантливых людей, попал в опалу, был отстранен от высоких должностей и сослан на юг, а его место занял ловкий и беспринципный царедворец Ли Линь-фу, деятельность которого в немалой мере ускорила наступление того тяжелого кризиса, который двумя десятилетиями позже разразился в процветавшем дотоле Танском государстве.
Падение Чжан Цзю-лина и последовавшее за этим засилье временщиков и авантюристов, окруживших императорский трон, несомненно, сказалось на дальнейшем жизненном пути Ван Вэя и на его устремлениях. Он не оставил службу, но прежняя его вера в то, что службой своей он может принести пользу стране, была, по-видимому, серьезно поколеблена. Он получает новые должности и чины в различных районах обширной империи, совершает поездку на западную границу - эта поездка нашла свое отражение в великолепном цикле его "пограничных" стихов. Он уже приобрел широкую известность как поэт, музыкант, каллиграф и художник; некоторые из его стихотворений, например, "Память о друге" или "Под ветер прохладный, при ясной луне горьки тоскливые думы", положенные на музыку, стали популярными песнями. О музыкальности его ходили легенды: рассказывают, что однажды, увидев картину, изображавшую играющих музыкантов, он безошибочно назвал не только исполнявшееся произведение, но даже точно указал такт. Перед Ван Вэем и его младшим братом Ван Цзинем, тоже одаренным поэтом, раскрываются двери самых знатных домов. Но мысли об уходе на покой, об отшельническом уединении среди "гор и вод", "полей и садов" с годами все сильнее и настойчивее овладевают поэтом: "С каждым днем все слабей // Любовь и привычка к родне. // С каждым днем все сильней // Стремленье к покою во мне. // Немного еще - // И в дорогу пуститься готов. // Неужель дожидаться // Прихода вечерних годов?" ("Из стихов на случай", 1).
Истоки отшельнических настроений Ван Вэя коренятся и в многовековой китайской традиции, идущей от древних мудрецов, и в буддизме, ревностным последователем которого он был с детства и до конца своих дней. Надо думать, способствовали им и служебные неудачи ближайших друзей поэта, чьи таланты не нашли должного применения на государственном поприще, и общее ухудшение дел в стране, явственно обозначившееся в последние годы царствования императора Сюань-цзуна. Не порывая окончательно со службой, поэт все чаще и чаще перемежает ее с длительными "отлучками" в мир "гор и вод". Сначала его прибежищем становится дом в горах Чжуннань (или Южных горах, как он их часто называет в своих стихах). Затем таким оазисом в мире суеты, "Персиковым источником", стал для Ван Вэя его загородный дом на реке Ванчуань - в уединенной живописной местности в столичном уезде, неподалеку от гор Чжуннань. Рано овдовевший поэт живет здесь один, но его постоянно навещают друзья. Он был в дружбе со многими своими современниками, в том числе с известными поэтами Пэй Ди и Чу Гуан-си, а еще ранее - с Мэн Хао-жанем. Только случайно не встретился он с Ду Фу, который посетил ванчуаньское жилище Ван Вэя, но не застал хозяина дома. Он посвящает свои досуги поэзии, музыке, живописи; многие из шедевров его пейзажной лирики скорее всего созданы именно в эти годы. В их числе знаменитый цикл "Река Ванчуань" из двадцати стихотворений, в которых воспеты особенно любимые поэтом уголки местной природы, - итог своего рода дружеского состязания с Пэй Ди, создавшим ответный цикл стихов под тем же названием {Следуя давней и славной традиции помещать эти циклы в корпусе одного издания, мы приводим их в антологии существующих на сегодняшний день переводов в отделе "Приложения". См. с. 387-498 наст, издания.- Прим. составителя.}. Образ жизни поэта, к тому времени уже довольно крупного чиновника, был, судя по стихам, самым простым и скромным - хотя встречающиеся в тех же стихах упоминания о "бедности" и о "лачуге" скорее всего лишь дань устоявшейся традиции.
Мятеж, поднятый в 755 году императорским фаворитом Ань Лу-шанем, попытавшимся захватить трон, и потрясший огромную империю до основания, прервал мирную жизнь старого поэта. Обе столицы страны - Чанъань и Лоян - оказались в руках мятежников, император бежал в юго-западную область Шу и вскоре отрекся от престола, а Ван Вэй, подобно многим другим чиновникам, был схвачен мятежниками и затем принужден был поступить на службу к узурпатору. Еще когда он находился под арестом в столичном храме Путисы, его навестил там Пэй Ди и рассказал о пиршестве, устроенном мятежниками в захваченном ими императорском дворце, на берегу пруда Застывшей Лазури: согнанные на празднество придворные музыканты, едва начав петь, разрыдались, а один из них бросил на землю лютню и, обратясь лицом на запад (туда, где находился в это время законный император), громко застонал - за что был тут же растерзан по приказанию Ань Лу-шаня. Ван Вэй, потрясенный услышанным, сложил стихотворение и тут же прочел его другу. Экспромт получил известность, дошел он и до нового императора - Су-цзуна и вместе с ходатайством младшего брата поэта - Ван Цзиня, уже крупного сановника, - в немалой мере способствовал смягчению участи поэта после возвращения в столицу императорских войск: за свою подневольную службу узурпатору он был лишь понижен в должности. К тому же наказание было непродолжительным, и вскоре Ван Вэй вновь стал быстро подниматься вверх по служебной лестнице, достигнув должности шаншу ючэна - заместителя министра. Вскоре после этого последнего назначения Ван Вэй скончался - как уже сказано выше, предположительно в 761 году - в возрасте шестидесяти лет.
Жизненный и творческий путь Ван Вэя приходится на первые шесть десятилетий VIII века, оказавшиеся в истории танской поэзии своеобразным "пиком", своего рода "золотым веком" в "золотом веке". Причем Ван Вэй был не просто современником и свидетелем этого "золотого века", но и одним из деятельных его творцов, ибо поэзия его, сумевшая сочетать в себе высочайшее словесное мастерство с чисто живописной пластикой, стала одним из высших творческих достижений эпохи.
Творчество поэта многообразно: в нем и отзвуки "Чуских строф", и древних народных песен, стихов Тао Юаньмина и его современников; он писал и "старые стихи" ("гу ши") с их более свободной формой, и отточенные "стихи современного стиля" ("цзинь ти ши") - с четким и стройным чередованием присущих китайским словам музыкальных тонов. Он воспевал дружбу и отшельничество, тяготы дальних походов и тоску одинокой женщины, подвиги странствующих удальцов и мирные бдения буддийских монахов; есть у него стихи на исторические темы и бытовые зарисовки, размышления о старости и о бренности мирской, стихи о достойных мужах, оказавшихся не у дел, и о развлечениях столичной знати, и, конечно же, многочисленные стихи о полях и садах, о горах и водах. Без преувеличения можно сказать, что он так или иначе затронул в своей поэзии едва ли не все темы, волновавшие его предшественников и современников, причем сделал это своеобразно и ярко, сумев даже в темах, явно находящихся на периферии его творчества (например, в своих "пограничных" стихах или в стихах, обличающих столичную знать), в чем-то предвосхитить позднейшие достижения таких признанных мастеров, как Бо Цзюй-и или Синь Ци-цзи.
Сколько энергии и движения в таких его строках, как "Что ни десять ли - // Гонят вскачь коня. // Что ни пять - // Свистящий размах ремня. // Донесенье наместнику // Прибыло в срок: // Цзюцюань осадила // Хуннская рать. // Снегопад на заставе // Все заволок, // Даже дыма сигнальных костров // Не видать" ("На границе").
И как это расходится с привычным представлением о Ван Вэе как о сугубо "тихом", даже "тишайшем" поэте!
А разве не напоминают будущих "Циньских напевов" Бо Цзюй-и такие стихи Ван Вэя: "Беззаботна, беспечна // Одетая в шелк молодежь. // В наипервых домах // Появляется часто она. // Уродилась в богатстве, // Наследной казны не сочтешь, // Благосклонностью царской // От юности одарена. // Не обучена с детства. // В достатке мясная еда. // В золоченых колясках // Разъезжает везде и всегда..." ("Чжэн и Хо, жители гор").
Превосходны "исторические" стихи поэта, глубоко лиричны его стихи о тоскующих женщинах.
Все это дает нам основание несколько шире взглянуть на его творчество и отойти от привычной оценки Ван Вэя как поэта-"отшельника", певца отшельнических настроений, и только. Приведенные выше примеры (число их, при желании, нетрудно умножить) существенно дополняют и обогащают основной поток творчества поэта и дают возможность более точно и объективно судить об этом творчестве в целом. В то же время они отнюдь не опровергают того факта, что главной темой Ван Вэя, отмеченной высшими его творческими достижениями, была тема природы и жизни среди природы. Именно здесь Ван Вэй как поэт был наиболее своеобразен и оригинален, именно на этом пути ему суждено было сделать главные свои художественные открытия и создать свои вершинные творения.
Тема природы в китайской поэзии имеет многовековые традиции, восходящие еще к "Шицзину". Она представлена в "Чуских строфах" и в прозопоэтических одах "фу" с их пышными описаниями, в поэзии III-IV веков, но самостоятельное значение приобретает лишь с V века - в творчестве поэта Се Лин-юня, который считается истинным основоположником жанра пейзажной поэзии в чистом ее виде. В творчестве старшего современника и друга Ван Вэя поэта Мэн Хао-жаня (689-740) пейзажная лирика достигает подлинной зрелости и высокого совершенства. Картины природы в стихах Мэн Хао-жаня, как правило, строго определенны, конкретны и зримы, они уже лишены расплывчатости, приблизительности и наивного аллегоризма, которые были еще в немалой мере свойственны пейзажной лирике его предшественников. В этом нетрудно убедиться на примере одного из лучших стихотворений поэта "Осенью поднимаюсь на Ланьшань. Посылаю Чжану Пятому":
На Бэйшане
среди облаков белых
Старый отшельник
рад своему покою...
Высмотреть друга
я восхожу на вершину.
Сердце летит,
вслед за птицами исчезает.
Как-то грустно:
склонилось к закату солнце.
Но и радость:
возникли чистые дали.
Вот я вижу -
идущие в села люди
К берегам вышли,
у пристани отдыхают.
Близко от неба
деревья как мелкий кустарник.
На причале
лодка совсем как месяц...
(Перевод Л. Эйдлина)
В стихах этих, в их образах и настроении, уже немало общего со стихами Ван Вэя, который испытал влияние поэзии своего старшего друга и, несомненно, был многим ему обязан. Еще одно подтверждение тому - знаменитое "Весеннее утро", созданное Мэн Хао-жанем в жанре лирической миниатюры-цзюэцзюй, в жанре, который столь талантливо развил в своем творчестве Ван Вэй:
Меня весной
не утро пробудило:
Я отовсюду
слышу крики птиц.
Ночь напролет
шумели дождь и ветер.
Цветов опавших
сколько - посмотри!
(Перевод Л. Эйдлина)
Помимо открытий Мэн Хао-жаня пейзажная лирика Ван Вэя вобрала в себя достижения многих других предшественников поэта, органично усвоив весь многовековой опыт старой поэзии. Стихи Ван Вэя полны "перекличек" с "Чускими строфами" и песнями "юэфу", с поэзией Тао Юань-мина и Се Лин-юня, они изобилуют скрытыми и полускрытыми "цитатами", искусно обыгрываемыми в новом контексте. При этом обильное "цитирование" предшественников отнюдь не перегружает стихов Ван Вэя, не вредит их художественной целостности и своеобразию - настолько естественно и органично вплетена инородная лексика в ванвэевский текст. Тем, кто будет читать пейзажный цикл "Река Ванчуань", наверное, и в голову не придет, что едва ли не половина этих легких, прозрачных, воздушных, будто на одном дыхании созданных четверостиший содержит в себе образы из древних сочинений - прежде всего из особенно любимых поэтом "Чуских строф". Ибо огромная эрудиция поэта легко и свободно вошла в его внутренний мир и растворилась в нем, а высокая литературность, в лучшем смысле этого слова, его поэзии просто и естественно сочеталась с живым, неповторимым, непосредственным поэтическим чувством и наблюдательностью художника.
Поэзии Ван Вэя свойствен особо внимательный и пристальный взгляд на природу, какого прежняя китайская поэзия, пожалуй, до него не знала. Философия чань (дзэн)-буддизма, которую Ван Вэй исповедовал, а также даосская философия Лао-цзы и Чжуан-цзы учили его видеть в природе высшее выражение естественности, высшее проявление сути вещей. Любое явление в природе, каким бы малым оно ни казалось, любой миг в вечной жизни природы - драгоценны, как драгоценен, исполнен высокого смысла каждый миг общения с нею. Для истинного поэта природы нет тем больших и малых, нет картин высоких и низких, нет мелочей. Быть может, отсюда та присущая Ван Вэю любовь к "крупному плану" в изображении картин природы, к тем "мелочам", мимо которых нередко проходили прежние поэты и художественное воссоздание которых стало одним из высших завоеваний ванвэевской поэзии: "Дождь моросит // На хмурой заре. // Вяло забрезжил // День на дворе. // Вижу лишайник // На старой стене: // Хочет вползти// На платье ко мне" ("Пишу с натуры").
Едва ли не первый в китайской поэзии Ван Вэй обратил внимание на скромное это событие в жизни природы - и посвятил ему стихи. Вот это стремление и умение увидеть целый мир в капельке росы, воссоздать картину природы или передать рожденное ею настроение с помощью немногих скупо отобранных деталей - характерное свойство пейзажной лирики Ван Вэя, доведенное им до совершенства и ставшее достоянием всей последующей китайской поэзии. Возможно, что неискушенному читателю многие стихи Ван Вэя или его ученика и друга Пэй Ди покажутся "бессодержательными", написанными вроде бы "ни о чем": солнечный луч прокрался в чащу и прилег на мох... По склону горы, тронутой красками осени, блуждает вечерняя дымка - от этого листва кажется то ярче, то темнее... Ряска на сонном пруду сомкнулась вслед за проплывшей лодкой - а ветви ивы опять ее размели... Взлетела цапля, испугавшись брызг... Баклан поймал рыбешку... Зачастили дожди в горах - опавшие листья некому подмести... Солнце садится - холодно на реке, а над рекой - бесцветные облака... Яркий свет луны вспугнул дремлющих птиц, и они поют над весенним ручьем... Легкий ветерок разносит повсюду лепестки цветов - а иволга с ними играет... Но все это - великая природа в бесчисленных своих проявлениях и изменениях, в бесконечном своем многообразии и единстве, в вечной и совершенной своей красоте. И чтобы поведать об этом и выразить в слове ее сокровенную суть, поэтам совсем не нужны большие полотна и подробные описания - достаточно нескольких - как бы случайных - штрихов, двух-трех - будто небрежно брошенных - цветовых пятен... Только брошены эти штрихи и пятна безошибочно верной рукой больших мастеров.
Бывают в общении поэта с природой и высшие моменты внезапного "озарения", когда он, созерцая, вдруг постигает истину о мире во всей ее полноте, находит внезапный ответ на все загадки бытия. Мгновенья эти приходят неожиданно: их могут породить вид цветущей сливы или лунный свет, проникший в чащу леса, запах цветов корицы или плодов горного кизила, журчанье ручья или дождевые капли на листьях... Поэт стремится уловить эти мгновения, зафиксировать их в слове и передать другим как некую благую весть. Этой же цели служат и готовые, устойчивые формулы, повторяющиеся из стихотворения в стихотворение: белые облака, запертая калитка, тишина и безлюдье - символы отшельничества, уединения, отрешенности от мира, призванные сразу же пробудить соответствующие ассоциации в читателе. Все это делает поэзию Ван Вэя многослойной, как многослойна суфийская лирика, полной намеков и недосказанности. Она учит не только созерцать природу, но и размышлять о ней и, размышляя, понимать.
Нетрудно заметить, что поэтический мир Ван Вэя - это мир, увиденный и изображенный не только истинным поэтом, но и зорко видящим художником. Ван Вэй и был художником, причем - насколько мы можем теперь судить по отзывам современников и немногим сохранившимся копиям с его картин - художником не менее значительным, чем поэт. В одном из поздних и "итоговых" своих стихотворений он сам полушутя-полусерьезно говорит, что в прошлом своем перерождении был скорее всего художником, а не поэтом - завершая, впрочем, слова свои тем, что сердце его знать не хочет ни о славе художника, ни о славе поэта... Он считается основоположником так называемой "южной школы" в китайской буддистской живописи, к которой, по словам исследователя, "...условно говоря, относятся те мастера, которые предпочитали тушь многокрасочности, эскизную, свободную манеру - педантичной и описательной, выражение сути (идеи) вещи - ее конкретной достоверности и, наконец, не сюжетом и бытописанием были связаны с литературой, а сложной системой ассоциаций" {Е. В. Завадская. Эстетические проблемы живописи старого Китая. / М.: Искусство, 1975, С. 201.}. Ему же припис ывается и знаменитый трактат "Тайны живописи" - одно из основополагающих сочинений по теории живописи, оказавшее большое влияние на последующее развитие теории и практики живописи в Китае. Сочинение это, написанное превосходной, высокопоэтичной ритмической прозой, можно также рассматривать и как своеобразный комментарий к пейзажной лирике Ван Вэя, где образы поэтические по большей части трудно отделить от образов чисто живописных, не случайно крылатыми стали слова поэта Су Ши: "Наслаждаюсь стихами Мо-цзе {Мо-цзе - второе имя Ван Вэя.} - в стихах его - картины; гляжу на картины Мо-цзе - в картинах его - стихи". Действительно, пейзажная лирика Ван Вэя удивительно живописна, "картинка" в лучшем смысле этого слова - классическим примером опять же может служить цикл "Река Ванчуань", где большинство стихотворений (за исключением нескольких, заполненных историческими и мифологическими ассоциациями) представляют своего рода живопись в слове - или картины, выполненные словом: "Отмель у белых камней // Прозрачна, мелка. // Заросли тростника - // Рядом со мной. // На запад и на восток - // Река и река: // Волны моют песок // Под ясной луной" ("Отмель у белых камней").
А сколько свежести, чисто живописной гармонии и совершенства в небольшой весенней картинке из цикла "Радости полей и садов", будто сошедшей со свитка старого китайского мастера: "Персик в цвету // Ночным окроплен дождем. // Вешний туман // Ивы обвил опять. // Летят лепестки - // Слуга подметет потом. // Иволга плачет, // А гость мой изволит спать".
Не будет, наверное, преувеличением сказать, что Ван Вэй - художник, безвозвратно утраченный для нас в живописи, - в немалой мере сохранился и дошел до нас в своих стихах, наглядно подтверждая тем самым приведенное выше суждение Су Ши, ибо живопись в стихах Ван Вэя присутствует зримо и несомненно.
Остается добавить, что в стихах о природе Ван Вэй проявил себя художником разносторонним: он умел с редким совершенством писать о цветах и птицах, о мирной жизни среди полей и садов - и он же мог при случае, например, в "пограничных" своих стихах, буквально несколькими скупыми, резкими штрихами передать суровую красоту пустынных степей. Подвластны были его кисти и величественные картины природы - водные просторы, могучие горные хребты (см. стихотворение "Горы Чжуннань").
Воздействие пейзажной поэзии Ван Вэя на творчество его современников и поэтов последующих поколений было огромным и прослеживается на протяжении веков. В творчестве Ван Вэя китайская пейзажная лирика поднялась на огромную художественную высоту и обрела основные свои черты, определившие едва ли не все дальнейшее ее развитие. Став непременной, а нередко и важнейшей частью творчества подавляющего большинства танских и сунских поэтов, разработанная с удивительной полнотой, глубиной и художественным совершенством, китайская поэзия природы стала феноменом мирового значения, одним из высших достижений не только китайской, но и мировой поэзии. И одно из самых почетных мест в истории развития этого жанра заслуженно принадлежит великому поэту и великому художнику Ван Вэю.
В. Т. Сухоруков
китайская поэзия ван вэй
TВАН ВЭЙ В ПЕРЕВОДАХ Ю. К. ЩУЦКОГО
Без названия
Видел я: в весеннем холодке
Распустилась слив краса.
Слышал я: запели вдалеке
Я в томлении своем весеннем
Вижу: зелена, нова,
Перед домом к яшмовым ступеням
Робко тянется трава.
Провожаю весну
День за днем старею я всечасно,
Как-то попусту, напрасно.
Год за годом вновь возвращена
К нам является весна.
Есть бокал вина, и без сомненья
В нем найдешь ты наслажденье.
Пусть цветы и полетят к земле -
Их напрасно не жалей!
Песнь взирающего вдаль на Чжуннаньские горы
Посвящаю сенатору Сюй"ю
Выходишь ты вниз, вниз из сената,
И видишь: настало уже время заката.
Скорбишь ты о том (знаю я, знаю!),
Что эти мирские дела очень мешают.
Ты около двух старых и стройных
Деревьев с коня соскочил, глядя спокойно.
Не едешь домой. Смотришь в просторы,
И видишь в туманной дали синие горы.
ИЗ СТИХОВ "ДОМ ХУАНФУ ЮЭ В ДОЛИНЕ ОБЛАКОВ"
Поток, где поет птица
Живу я один на свободе,
Осыпались кассий цветы.
Вся ночь безмятежно проходит...
Весенние горы пусты.
Но птицу в горах на мгновенье
Вспугнула, поднявшись, луна:
И песня ее над весенним
Потоком средь ночи слышна.
В ответ братцу Чжан У*
Пырейная лачуга
В Чжуннани есть. Фасад
Ее встречает с юга
Вершин Чжуннаньских ряд.
Весь год гостей не вижу я,
Всегда закрыта дверь моя.
Весь день свобода здесь, и с ней
Усилий нет в душе моей.
Ты ловишь рыбу, пьешь вино,
И не вредит тебе оно.
Приди! - и будем мы с тобой
Ходить друг к другу, милый мой!
Вместе с Лу Сяном прохожу мимо беседки в саду ученого Цуй Син-цзуна
Деревья зеленые плотную тень
Повсюду собою накрыли.
Здесь мох утолщается каждый день,
И нет здесь, конечно, пыли.
Он, ноги скрестивши, без шапки сидит
Под этой высокой сосною;
На мир лишь белками с презреньем глядит
Живущий жизнью земною.
Покидаю Цуй Син-цзуна
Остановлены лошади в ряд; мы готовы
Разлучить рукава и полы.
Над каналом большим императорским снова
Начиняется чистый холод.
Впереди красотою сияя высоко,
Поднимаются горы-громады,
От тебя уезжаю я вдаль одиноко,
И опять на сердце досада.
Провожаю Юаня Второго, назначаемого в Аньси
Утренним дождем в Вэйчэне *
Чуть пыльца увлажнена.
Зелены у дома тени,
Свежесть ив обновлена.
Выпей, друг, при расставанье
Снова чарку наших вин!
Выйдешь ты из Янь-гуаня *
И останешься один.
На "Высокой Террасе" провожаю цензора Ли Синя
Провожать тебя всхожу
На "Высокую Террасу" и слежу,
Как безмерно далека
Протянулась и долина и река.
Солнце село; и назад
Птицы, возвращаяся, летят.
Ты же продолжаешь путь
И не остановишься передохнуть.
В девятый день девятой луны вспомнил о братьях в горах
Живу одиноко в чужой стороне,
Как причудливый странник. И вот,
Лишь радостный праздник Чун-яна * придет,
О родных я тоскую вдвойне.
Все братья теперь с волшебной травой,
(Вспоминается мне вдали)
Чтоб стебли воткнуть, на горы взошли...
Но кого-то там нет одного.
Фрейлина Бань Цзеюй *
Странно всем, что двери я закрыла
В терем, где храню белила.
Царь спустился из приемной залы,
Но его я не встречала.
Без конца смотрю, смотрю весь день я
В этот царский сад весенний.
Там, я слышу, говор раздается:
Кто-то * меж кустов смеется.
Прохожу мимо храма "Собравшихся благовоний"
Не знаю, где стоит в горах
Сянцзиский храм *. Но на утес
Я восхожу, и путь мой кос
Меж круч в туманных облаках.
Деревья древние вокруг...
Здесь нет тропинок. Между скал
Далекий колокола звук
В глуши откуда-то восстал.
За страшным камнем скрыт, ручей
Свое журчанье проглотил.
За темною сосною пыл
Остужен солнечных лучей.
Пуста излучина прудка,
Где дымка сумерек легка;
И созерцаньем укрощен
Точивший яд былой дракон.
Поднялся во храм "Исполненного прозрения"
Здесь, по "Земле Начальной" * вьется
Кверху тропинка в бамбуках.
Пик ненюфаров выдается
Над "градом-чудом" * в облаках.
Чуские три страны на склоне
Все здесь видны в окне моем.
Девять стремнин как на ладони
Вон там сравнялись за леском.
Вместо монашеских сидений
Травы здесь мягкие нежны.
Звуки индийских песнопений *
Под хвоей длинною сосны.
В этих пустотах обитаю
Вне "облаков закона" я.
Мир созерцая, постигаю,
Что "нет у Будды бытия" *.
Изнываю от жары
Землю наполнивши и небо,
Солнце багровое сгорает.
На горизонте, словно кручи,
Огнем сверкающие тучи.
Свернулись-ссохлись листья, где бы
Они ни выросли. Без края
Вокруг иссохшие луга.
Иссякла, высохла река.
Я замечаю тяжесть платья
И в самой легкой, редкой ткани.
Даже в густой листве растений
Страдаю: слишком мало тени...
У занавеса близко встать я
Теперь совсем не в состояньи.
Одежду из сырца сейчас
Мою второй и третий раз.
Весь мир, пылая жаром, светел.
За грань вселенной вышли мысли.
Стремятся, как долина в горы,
Они в воздушные просторы.
Издалека примчался ветер.
Откуда он - и не исчислить.
Река и море от волны
И беспокойны и мутны.
Но эта вечная забота
От тела только. Мне понятно,
Лишь на себя я оглянулся...
Еще я сердцем не проснулся -
И вдруг вступаю я в "Ворота
Росы Сладчайшей, Ароматной" *,
Где в чистом мире холодка
Для сердца радость велика.
Стихи китайского поэта тоже написаны как бы простой тушью, монохромом, но в этом и высшее искусство - простыми средствами раскрыть саму "природу природы". В Китае считают, что Ван Вэй это делал гениально. Размещено на www.allbest.ru
Подобные документы
Жизненный и поэтический путь Н.М. Рубцова, истоки лирического характера и пейзажная лирика в его поэзии. Мир крестьянского дома, старины, церкви и русской природы - рубцовское понятие Родины. Значение темы дороги для понимания всей поэзии Н. Рубцова.
курсовая работа , добавлен 11.03.2009
Значение пейзажной лирики в творчестве русских поэтов второй половины XIX века. Пейзажная лирика в стихотворениях Алексея Толстого, Аполлона Майкова, Ивана Никитина, Алексея Плещеева, Ивана Сурикова. Сочетание внутреннего мира человека и красоты природы.
реферат , добавлен 30.01.2012
Понятие "философская лирика" как оксюморон. Художественное своеобразие поэзии Ф.И. Тютчева. Философский характер мотивного комплекса лирики поэта: человек и Вселенная, Бог, природа, слово, история, любовь. Роль поэзии Ф.И. Тютчева в истории литературы.
реферат , добавлен 26.09.2011
Современные школьные программы по изучению произведений Ф. Тютчева. Лирический фрагмент как жанр тютчевской лирики. Точность психологического анализа и глубина философского осмысления человеческих чувств в лирике Ф. Тютчева. Любовная лирика поэта.
дипломная работа , добавлен 29.01.2016
Тематическое многообразие русской поэзии. Тема суицида в лирике В.В. Маяковского. Самоубийство как бунт против божественной воли в поэзии. Анализ биографических фактов жизни и творчества поэта Бориса Рыжего. Поэтическое наследие уральского поэта.
реферат , добавлен 17.02.2016
Место Бориса Пастернака в русской поэзии как значительного и оригинального лирика, замечательного певца природы. Мотивы творчества поэта. Творчество как процесс, выводящий поэта к пониманию последней истины. Лирический герой в произведениях Пастернака.
реферат , добавлен 31.08.2013
Истоки и сущность романтизма в американской поэзии, периоды раннего и позднего романтизма. Современные направления поэзии США: традиционализм, поэты-одиночки, экспериментальная поэзия. Своеобразие литературы, связанное с многонациональностью страны.
курсовая работа , добавлен 01.11.2013
Тема поэта и поэзии является одной из важнейших тем в творчестве Н.А. Некрасова. Она протянута через несколько его произведений, в частности "Поэт и гражданин" и "Элегия".
сочинение , добавлен 16.12.2002
Краткие биографические сведения о поэте. Начало творческого пути. Истоки формирования поэтического слова Светланы Ивановны. Временные периоды в литературном творчестве C. Матлиной. Тема войны и России, любовная лирика в поэзии. Своеобразие ее прозы.
реферат , добавлен 25.03.2015
Краткие сведения о жизненном пути и творческой деятельности В. Ходасевича. Основные черты его поэзии. Влияние символизма на лирику В. Ходасевича. Книга "Собрание сочинений" как вглядывание в собственную душу. Размышление о смысле жизни в творчестве поэта.
Достаточно хорошо известно, что наиболее естественным способом самовыражения для традиционной китайской философии была лите-ратурная форма, и по этому параметру она сопоставима, скажем, с русской философией. Следовательно, для адекватного понимания китайской философской мысли необходим анализ ее поэтически-мета-форических средств выражения (подробнее см. ), но и, наоборот, для адекватного понимания классической китайской поэзии необхо-димо полное осознание и выявление ее глубинной философичности. Китайская поэзия не может быть избавлена от видимости легкомыс-ленной примитивности до тех пор, пока ее мудрость не будет ожи-вотворена «святым» духом китайской философии. Часто встречаю-щееся умиление якобы детской непосредственностью и простотой этой поэзии не более чем недоразумение. Китайская поэзия — это «тончайший сок» китайской культуры, и уже априорно ясно, что квинтэссенция столь многосложной и рафинированной культуры не может быть простой и непосредственной.
Что же касается китайской философии, то внутри породившей ее духовной культуры она обладает (если воспользоваться матема-тическим термином) большей областью определения, нежели любая западная философия. Оборотной стороной этого обстоятельства яв-ляется то, что философские идеи в Китае располагают более обшир-ным арсеналом средств выражения. Это утверждение не противоречит часто отмечаемой исследователями узости проблематики и катего-риального аппарата традиционной китайской философии, так как рекрутирование ею выразительных средств производится «по верти-кали», т. о. за счет специфической универсальной классифицированности понятий и приведенности элементов полученных классов во взаимно-однозначное соответствие. Ранний, но уже достаточно разви-той пример такого концептуального схематизма являет собой 24-я гла-ва «Шуцзина» «Хун фань» («Величественный образец») . Подобное построение делает возможным выражение идей, заложенных в «фундаменте», через конструктивные элементы и первого «этажа» и «крыши». Причем внутри каждого «этажа» на-личествует своеобразный связующий материал, гарантирующий стро-гую однозначность переходов от одного уровня к другому. Дабы из-бежать голословности, попытаемся проиллюстрировать высказанный тезис конкретным материалом, т. е. уловить метафизический смысл там, где на его присутствие как будто не приходится рассчиты-вать.
Обратимся к двум на первый взгляд далеким от философии стихо-творениям Ду Фу . Выбор их продиктован именно земной конкрет-ностью, а не эмпирейной абстрактностью содержания. Залогом успеха в предпринимаемом поиске можно считать, во-первых, то, что речь пойдет о классических образцах творчества корифея китайской поэзии, от которых следует ожидать максимальной реализованности заложенных в ней вышеописанных потенций, а во-вторых, то, что по крайней мере неединственность их смысла достоверно устанавли-ваема. За непосредственным смысловым планом поэтического описа-ния отчетливо воссоздается другой смысловой план — конкретная социально-политическая ситуация, задаваемая суммой реалий. Сверх того, развитое до виртуозности в китайской литературе искусство заимствования и намека, втягивая в орбиту стихотворений те или иные частицы классического литературного наследия прошлого, создает в них своего рода индивидуальный литературный микромир, который выделяется в особый смысловой план. Как учит «Даодэцзин» , «Одно порождает Два, Два порождает Три, а Три порождает Десять тысяч вещей» (§ 42). Следовательно, есть резон предполагать существование и еще какого-то (каких-то) смыслового плана.
Итак, надлежит показать минимум четыре смысловых уровня иероглифического поэтического текста: первый — данный непосредст-венно в переводе, второй — исторические реалии, третий — «литера-турный микромир», четвертый — метафизические спекуляции. По-скольку в данном случае нас интересует главным образом последний, за более или менее специальными комментариями к стихотворному переводу следует их общий анализ, в котором с помощью канониче-ских философских трактатов интерпретируется одна из ведущих тем поэтических шедевров Ду Фу. Она возникает в самом начале обоих стихотворений и условно может быть названа темой воды. Общий анализ заканчивается попыткой объяснить метафизическую общность двух стихотворений, парных с точки зрения китайской культурной традиции. Что касается даваемых по пунктам комментариев, то в них перемежается информация, относящаяся ко второму, третьему и чет-вертому планам.
Переводы выполнены по изданию «Триста стихотворений [эпохи] Тан с подробными объяснениями» . Специальный литературоведческий разбор первого из предлагаемых стихотворений был осуществлен Л. А. Никольской в статье «О стихотворении Ду Фу „Красавицы"» . Там же опубликован в неполном виде наш перевод этого стихотворения. Оба стихотворения, насколько нам известно, ранее на русский язык не переводились.
Песнь о красавицах
1
В весенний праздник очищенья 2
Дыханье обновляет небосвод 3 .
В Чанъани стольной 4 , возле вод
Красавиц чудное стеченье.
Далеки помыслы, величественна стать,
С красою в сочетанье чистота.
Весь облик полон нежности прелестной 5 ,
Отмечен высшею гармонией телесной.
Весна, которой убывает срок,
В шелках нарядов празднично лучится,
На них горящий серебром единорог 6
С жар-птицей 7 златотканою теснится.
Чем головы увенчаны у них?
Зелеными сплетенный лепестками,
Висящими изящно над висками,
Их облекает зимородка легкий пух.
Что взгляд находит за спиной?
Жемчужины давящей пеленой
Застывший платья шлейф одели,
Как будто отлитой на теле 8 .
Внутри, за пологом, расшитым облаками,—
Родня царицы из Перцового дворца 9 ,
Одарена от высшего лица —
Цинь, Го 10 — великих княжеств именами.
Верблюдов бурые горбы
Из чанов изумрудных вырастают,
И рыбы серебром чешуй блистают
В хрустальных чашах, что прозрачнее воды.
Уж палочки из кости носорожьей 11
Почти застыли, совершив свой труд,
Но с колокольцами ножи напрасно множат
Слепое изобилье тонких блюд.
Подняв узду, возница-евнух 12 мчится,
Не колыхнется пыль — так скор полет.
Дворцовый повар беспрерывной вереницей
С ним восемь яств бесценных шлет.
Свирелей и тамбуров скорбный причет
Тревожит чистых духов и чертей.
Собранье пестрое придворных и гостей
Есть сход сановников высокого отличья.
Но вот коня смятенное топтанье
Сопровождает чье-то опозданье!
У павильона оставляет гость коня,
Спешит ковер узорчатый занять.
Пух покрывает тополиный
Простую ряску снежною лавиной 13 .
Проворные сороки на хвосте
Разносят радостные вести 14 .
Могуществу министра 15 нет под стать —
Спалить грозит прикосновенье —
К нему остерегайся приближенья,
Страшись пред грозный взор его предстать.
1 «Песнь о красавицах» («Ли жэнь син») написана весной 752 г. Идейно она связана с необычайным ростом могущества при дворе семейства Ян, осно-вывавшегося на привязанности императора Ли Лунцзи (Сюань-цзун, 712—756) к своей наложнице — знаменитой красавице Ян Гуйфэй . Перипетии описывае-мых событий — излюбленный сюжет дальневосточных литератур. Из имею-щихся в русском переводе произведений на эту тему достаточно указать .
Все стихотворение строится на рифме чжэнь — «истинное, подлинное» (быть может, намек на правдивость этой «поэтической информации»). Сам иероглиф «чжэнь» завершает 3-й стих, он же входит в официальное имя Ян Гуй-фэй — Тайчжэнь (Великая Истинность), данное ей по приказу императора (Гуйфэй — ее персональный титул, означающий «Драгоценная государева на-ложница»). Такой поэтический прием более чем компенсирует отсутствие в стихотворении самого имени Ян Гуйфэй. Песнь отчетливо членится на три смысловые части, последовательно перенося описание с общего вида празд-нующих столичных красавиц на пир у императорских фавориток, а затем на проявления всевластия временщика Ян Гочжуна (о нем — ниже).
2 Досл.: «в третий день третьей луны», т. е. в праздник, отмечавшийся этого числа. В 752 г. он приходился на третью декаду марта. Далее, в третьей строфе это называется концом весны (му чунь). По китайскому календарю, год начинался весной, поэтому третий месяц года одновременно являлся по-следним месяцем весны.
3 Досл.: «небесное ци обновляется» (тянь ци синь). Иероглиф «тянь» обо-значает не только собственно небо, но и вообще природу, взятую в единстве ее пространственных и временных характеристик. Он может обозначать так-же природу отдельного человека (см., например, ), видимо, в силу представления о гоморфизме макро- и микрокосма, а также благодаря этимологическому родству: иероглифы «тянь» и «жэнь» (человек) восходят к единому этимону. «Воздух, дыхание» (ци) — в философском смысле это свое-образная материально-духовная пневма, составляющая динамическую субстанцию мироздания. Следовательно, тянь ци не просто воздух и не просто погода, а сущностное состояние природы (мироздания), включая и природу человека. Таким образом, указанием об обновлении, или изменении, этого состояния в самом начале задается метафизическая экспозиция, предупреждающая о воз-можных отклонениях от обычного хода вещей и нормального поведения людей.
4 Чанъань, ныне Сиань, одна из двух столиц танского Китая, главный го-род провинции Шэньси.
5 Сочетание си ни (прелестная нежность) может быть понимаемо и как «тонкость и полнота», «изящная полнота», намекая, видимо, на полноту самой Ян Гуйфэй .
6 В оригинале: цилинь — мифическое благовещее животное с телом оленя и одним рогом.
7 В оригинале: кунцюэ (павлин).
8 Рисунки аристократического женского костюма эпохи Тан см.: .
9 «Перцовый дворец» — дворец императрицы, при оштукатуривании стен которого использовался перец, по мнению устроителей, содействовавший со-хранению тепла и создававший аромат. Для настоящего контекста существен-но, что возбуждающая пряность (перец) символизировала плодовитость.
10 В 748 г. трем сестрам Ян Гуйфэй император в знак особой милости пожаловал как титулы названия княжеств Хань, Го и Цинь (см. , правда, здесь в противоречие со сказанным на с. 15 говорится, что госпожа Циньго — «одна из теток», а не старшая сестра Ян Гуйфэй).
11 Рог носорога, подобно пантам марала и изюбра, обладает возбуждающим действием, тем самым лишний раз подчеркивается неумеренность празднества.
12 В оригинале: хуан мэнь (желтые ворота). Это устоявшееся обозначение придворных евнухов связано с тем, что желтый цвет символизировал все императорское. Известно также, что Ян Гуйфэй особенно любила желтый цвет .
13 Тополь по-китайски — ян . В этих строках содержится намек на ставленника семейства Ян, Ян Гочжуна, официально — старшего двоюродного брата Ян Гуйфэй. Некоторые источники сообщают, что он был ее родным братом . Это явная ошибка. По другим данным, Гочжун незаконно присво-ил фамилию Ян, будучи в действительности сыном некоего Чжан Ичжи . Сходной точки зрения придерживался Лу Синь, считая его сводным братом Ян Гуйфэй (см. ). Собственное имя его было — Чжао, а Гочжун (Верноподданный Государству) —пожалованный ему персональный титул. Аллегория с «пухом Тополя» намекает, по мнению комментаторов, на присвоение Ян Гочжуном фамилии Ян (Тополь) и на его любовную связь с упомянутой в стихотворении госпожой Гого . Поэтому нам трудно согласиться с мнением Л. А. Никольской, считающей, что Ду Фу намекает на интимную близость Ян Гочжуна с самой Ян Гуйфэй . Цветы ряски ранее использовались в свадебной церемонии и, видимо, также призваны символизировать интимную близость — Гочжуна и Гого. Аналогичным символом явилось погребение госпожи Гого под тополем . Чтобы продемонстрировать неслучайность такого рода символики, можно ука-зать на сходную роль сливы в жизни конкурентки Ян Гуйфэй — фаворитки Мэй (Слива). Она имела пристрастие к цветам этого дерева и была похоронена возле сливы .
14 Доcл.: «сине-зеленые птицы улетают, держа в клювах красные платки» (цин няо фэй цюй сянь хун цзинь). Эта строка весьма насыщена мифологиче-ской образностью. В «Книге о [династии] Поздняя Хань» в «Биографии Ян Чжэня» (цз. 84) комментарий к имени отца Ян Чжэня — Ян Бао (здесь та же фамилия Ян, что и у Ян Гуйфэй) сообщает о нем следующее. Будучи девяти-летним мальчиком, он спас от смерти и выходил желтую птичку (хуан цяо — Passer rutilams?), которая затем вернулась к нему в облике мальчика в жел-той одежде, представившегося посланцем от Си-ван-му (мифической Западной владычицы), «принесшего в клюве» (сянь) четыре белых кольца (бай хуань) и предсказавшего благоденствие потомкам Ян Бао . На связь этой истории со стихом Ду Фу указывает прежде всего использование в обоих слу-чаях иероглифа «сянь» “держать во рту (в клюве)”. Благодаря истории с Ян Бао иероглиф «сянь» в паре с иероглифом «хуань» образовал фразеологизм «сянь-хуань» (отблагодарить за милость). Поэтому, хотя в тексте стихотворения Ду Фу иероглиф «хуань» не сопутствует иероглифу «сянь», его семантическое влияние может быть там обнаружено. Это виртуальное присутствие, по всей вероятности без особых затруднений, должно было актуализироваться в созна-нии читателей за счет того, что иероглиф «хуань» входил в детское имя Ян Гуйфэй — Юйхуань (Нефритовое Кольцо).
История с Ян Бао заканчивается следующими словами «желторотого» по-сланца: «Ваши потомки (сыновья и внуки) достигнут [степеней] сань ши , чему соответствуют эти кольца». Род Ян Бао, согласно «Хоу Хань шу», про-исходил из уезда Хуаинь (пров. Шэньси), но оттуда же происходил и род Ян Гуйфэй , так что вполне вероятна их родственность. А отсюда следует, что вышеприведенное предсказание может рассматриваться и как рас-пространяющееся на Ян Гуйфэй. Навести поэта на мысль обыграть эту ситуа-цию могли и еще некоторые обстоятельства. Термин «сань ши» (три дела) в процитированной фразе синонимичен термину «сань гун» (три высших са-новника), а в названия всех этих трех должностей первым входил иероглиф «тай» (великий), позже — «да» (большой), поэтому они назывались также «сань тай» (три великих). Таким образом, наличие знака «тай» в имени-титуле Тайчжэнь как бы приравнивало Ян Гуйфэй к трем гунам, или сань ши . Осно-вание рассматривать ее в качестве четвертого «сверхштатного» гуна возника-ло и благодаря тому, что посланец Си-ван-му принес четыре кольца, но соот-нес их с тремя ши , т. е. как бы оставил одно кольцо непредназначенным кому-либо из этих троих. Поэтическое воображение тем самым получало законное право с помощью приема литературной реминисценции адресовать это коль-цо — символ высочайшего социального положения — вероятному потомку Ян Бао, ставшему у кормила государственной власти. Тем более что «белое кольцо» (бай хуань) как нельзя лучше соответствует имени Юйхуань (Нефри-товое Кольцо), поскольку нефрит (юй) в Китае всегда ассоциировался именно с белым цветом.
Имя Тайчжэнь еще одной нитью связывает Ян Гуйфэй с Си-ван-му — так же звали и одну из дочерей мифической Западной владычицы (ср. ).
Исток устоявшегося метафорического наименования посланцев — «сине-зеленые птицы» (цин няо) китайские филологи находят в следующем расска-зе из «Хань У гуши» («Историях, [связанных с] ханьским У[-ди]»): «В седь-мой день седьмой луны (обращаем внимание на праздничную дату. — А.К. ) вдруг появились сине-зеленые птицы — прилетели и сели перед дворцом. Дун Фаншо сказал: „Это [означает], что прибудет Си-ван-му". И вскоре [действи-тельно] прибыла Си-ван-му. Сбоку ее сопровождали три сине-зеленые птицы» (цит. по ). Три сине-зеленые птицы — стандартный атрибут Западной владычицы (см., например, «Шань хай цзин» — здесь они переведены как «зеленые птицы»).
Современные китайские комментаторы стихотворения Ду Фу отождеств-ляют сине-зеленых птиц с трехногими (обращаем внимание на значимость тут числа «три») воронами — вестниками счастья (сань цзу у), а всю строку ис-толковывают в том смысле, что к Ян Гочжуну отправляются гонцы с радост-ными известиями . Но трехногие вороны — вестники счастья — это то же самое, что красные вороны (чи у), о которых, в частности, говорится в «Люй ши чунь цю»: «Перед тем, как настать времени Вэнь-вана, Небо явило огонь. Красные вороны, держа в клювах красные письмена (сянь дань шу), сели на алтарь [дома] Чжоу» . И здесь мы опять видим, как птицы, держащие в клювах (сянь) красные предметы [письмена (шу) весьма близки к платкам (цзинь)], выражают идею благовествования.
О том же, что и «сине-зеленые птицы» ассоциируются в Китае прежде всего с добрыми вестями, свидетельствует перевод на китайский язык терми-ном «цин няо» «Синей птицы» Метерлинка.
В свете всего сказанного, а также с учетом того, что в Китае и сороки традиционно считаются предвестницами счастья и удачи, использование в пе-реводе русских вестниц — сорок — кажется нам оправданным.
15 Грозный и всевластный министр — это Ян Гочжун. Незадолго перед тем как была написана Песнь, в 752 г., он стал «правым» министром, а в 753 г. приобрел еще и должность главы Ведомства общественных работ. Впоследст-вии, во времена мятежа Ань Лушаня, объявившего своей целью его сверже-ние, этот временщик был казнен вместе с самой Ян Гуйфэй.
Песнь Ду Фу весьма красочно живописует всевозможные излишества, ко-торым предавались удачливые фавориты, но, по исконному убеждению китай-цев, ничто, нарушающее меру, не может долго существовать. Поэтому «винов-никами бунта Ань Лушаня молва единодушно называла троих — Гочжуна, госпожу Гого и Ян Гуйфэй» , поэтому же строки Ду Фу таят в себе осуждение. Однако жестокость насильственной смерти фаворитов явилась тоже нарушением меры, но уже в другую сторону, на что поэт соответственно про-реагировал осуждением произошедшего, в инвертированной форме сожаления о былом.
Плач у речного изголовья 1
Старик-селянин с Малого холма 2 ,
Стенаньями тесним, рыданьем мучим,
Весенним днем, таясь, бредет туда —
До Вьющейся Реки 3 излучин.
Дворец, стоящий в изголовии Реки,
На тысячи ворот надел замки.
Так для кого же изумрудные отливы
Младого тростника и нежной ивы? 4 .
В воспоминаньях блеск былых времен,
Когда над Южным парком вырастала
Сверкающая радуга знамен
И разноцветье тьма вещей рождала.
Владычица и первое лицо
Дворца Сияющего Солнца 5
Сидела с государем в экипаже,
Служа ему, как преданная стража.
Статс-дамы, во главе кортежа,
С собою лук со стрелами везут.
Их кони масти белоснежной 6
Златые удила грызут.
Вот к небу обратившись вдруг,
На облако стрелок нацелил лук —
Стремглав летя, одна стрела
Сбивает наземь два крыла.
Но где же нынче ясны очи? 7
И светлы жемчуга зубов?
Замаран кровью — опорочен —
Блуждает дух, утратив кров! 8
Стремится на восток прозрачной Вэй 9 теченье,
Но в глубину Цзяньгэ приходится вступать.
Оставшаяся здесь и тот, чье назначенье —
Уйти, не смогут уж друг другу весть подать 10 .
И человек, в котором живо чувство 11 ,
Грудь 12 оросит слезою грустной.
Ее обители — речным цветам, воде
Не ведом окончательный предел.
Светило золотое жухнет,
Нисходят сумерки, и ху
13 ,
Гоня коней, проносятся верхами,
Столицу наполняя пыльным вихрем.
Приходится на юг от града
Свой невеселый путь держать.
И северный предел оттуда
С надеждой созерцать 14 .
1 «Плач у речного изголовья» («Ай цзян тоу») написан в 757 г., видимо, еще во время пребывания Ду Фу в плену у мятежников, о чем можно судить по «скрытности» (цянь) его путешествия к Вьющейся Реке.
2 Старик-селянин с Малого холма — псевдоним Ду Фу, взятый им в связи с тем, что его семья проживала неподалеку от Малого холма (Шаолин), нахо-дившегося в уезде Чанъань.
3 Вьющаяся Река — название не реки, а озера, располагавшегося вблизи Чанъани. «Речное изголовье» (цзян тоу), таким образом, собственно означает конец озера. Вьющуюся Реку часто посещала Ян Гуйфэй. У этого озера раз-вертывались события, описанные в Песни; еще ханьский император Лю Чэ (У-ди , 141 — 87) устроил на его берегу посвященный весне парк (И чунь юань), а в танскую эпоху и, следовательно, во времена Ян Гуйфэй именно у его вод происходили гуляния и пиры в третий день третьей луны. Поэтому уже само заглавие этого стихотворения перекидывает мост к предыдущему. Упоминание о Лю Чэ как устроителе озера нужно для того, чтобы показать еще одну нить из клубка символических связей — обычно в произведениях, посвященных Ян Гуйфэй, проводится параллель между императором Ли Лунцзи и ею, с одной стороны, и императором Лю Чэ и его женой Ли — с другой.
4 Ивовая ветвь — традиционный символ тоски в разлуке.
5 С посещения императором Дворца Сияющего Солнца (Чжао ян дянь, переводится также как Дворец Блеска и Великолепия) началось возвышение Ян Гуйфэй, и потом она занимала этот дворец, так что под «первым лицом» разумеется она сама.
6 Белоснежность масти не случайный, а постоянный эпитет, говорящий о высокоценности коня. Одновременно он, видимо, несет в себе намек на траур-ный исход, поскольку белый цвет — цвет траура (ср. с аналогичной траурной символикой стихотворения Ду Фу «Белый конь»).
7 Ясны очи» — «светлые зрачки» (мин моу) — показатель душевной чис-тоты (подробнее — ниже).
8 Имеется в виду убийство Ян Гуйфэй, чей вышний дух (хунь) обречен па блуждания.
9 Река Вэй (приток Хуанхэ), отличающаяся прозрачной чистотой вод, в народном сознании противопоставляется мутной реке Цзин, с которой она соединяется, что и запечатлено в идиоме «Цзин-Вэй». Поэтическое противопо-ставление этих двух рек появилось уже в «Шицзине» (I, III, 10). Имеющее такое фигуральное значение название р. Вэй еще раз сообщает о душевной чистоте Ян Гуйфэй, погребенной у ее вод.
10 Цзяньгэ (Замок Мечей — в переводе Б. А. Васильева) — уезд в провинции Сычуань, куда углубился Ли Лунцзи, спеша на запад, чтобы в Чэнду укрыться от мятежников. Ян Гуйфэй же осталась почившей у берегов стремящейся на восток Вэй.
11 Эта строка (в оригинале — жэнь шэн ю цин) может быть понята как «люди и все, имеющие чувства», т. е. все живые существа; поддерживает такую трактовку и аналогичное сочетание однородных членов в параллельной строке: цзян шуй цзян хуа “речные воды и речные цветы”.
12 Грудь (и) — это не просто часть тела, но материальный символ души, что и отражено в иероглифе и , который состоит из знаков «мясо» и «мысль». Своим столь высоким статусом грудь обязана приближенности к сердцу, с традиционной китайской точки зрения, — средоточию всех психических способностей человека.
13 Ху — обозначение уйгур и прочих народностей, обитавших к северу и западу от Китая. Сам мятежный генерал Ань Лушань был ху , и его занявшая Чанъань армия в основном состояла из некитайских «варваров».
14 Озеро Вьющаяся Река, располагавшееся к югу от Чанъани, находилось на возвышенности, которая делала эту местность удобной для наблюдения. Север привлекал внимание поэта тем, что оттуда (из провинции Нинся) он ожидал прихода освободительных войск нового императора — Ли Хэна (Суцзун, 756—762).
Общий анализ
Начнем с первого стиха Песни. Другое обозначение праздника третьего дня третьей луны — «двойная тройка» (чун сань). Таких двойных праздничных дат в Китае немало, например: пятый день пятой луны, седьмой день седьмой луны, девятый день девятой луны. На числовую символику дат еще накладывается символическая связь праздников между собой. В частности, сами дуальные даты образуют диады. Третий день третьей луны сопряжен с девятым днем девятой луны как через нумерологическое единство тройки с девяткой, так и благодаря симметричному положению в круговороте времени — в го-довом цикле месяцев. Обряды, совершаемые осенью, связываются с горами, а весенние — с водами. В девятую луну, согласно древнему обычаю, надлежало подниматься в горы и совершать моления, а в третью луну полагались очистительные омовения с целью убережения от злотворных влияний. Поэтому Песнь и начинает описание с находящихся у вод красавиц. Связь гор и вод в китайском мироощущении более чем тесная, сведенные вместе два обозначающие их иероглифа выражают понятие пейзажа, показывая тем самым, что горы и воды представляются в виде своеобразной координатной сет-ки, набрасываемой на любое природное явление. Эти координатные оси действуют не только в области мироощущения и восприятия природы, но и в области мировоззрения. Конфуцию принадлежит афоризм: «Знающий радуется водам, гуманный радуется горам. Знающий — действенно-подвижен (дун), гуманный — покоен. Знаю-щий радуется, гуманный долгоденствует» («Лунь юй», VI, 23). Вот образчик того связующего материала, о котором было сказано выше. Если осуществить операцию суперпозиции, то получится, что в «вод-ный» праздник «двойной тройки» положено наслаждаться и радоваться, а времени «двойной девятки» соответствует минорное настрое-ние и возвышенные (в прямом и переносном смысле) размышления. Последнее вполне подтверждается неизменной минорностью, звуча-щей в стихах, посвящаемых китайскими поэтами девятому дню де-вятой луны (см., например, ). Значит, и мажорные интонации Песни Ду Фу предписаны «статутом» самого праздника, которому она посвящена. Связанный с любовью веселый характер «водного» праздника в третью луну отмечался уже в таких классических памятниках, как «Шуцзин» (I, VII, 21) и «Лунь юй» (XI, 26).
Образ воды, всплывающий в самом начале стихотворения, сразу направляет его в русло своих символических значений. Он тянется нитью иносказания к не называемому прямо, но тем не менее центральному персонажу Песни — Ян Гуйфэй, ибо предание гласит, что именно вслед за купанием в дворцовом водоеме (именно весной!) на нее снизошла любовь императора. Об экстраординарной роли омове-ний в ее судьбе свидетельствует известная картина Чжоу Фана (?) «Ян Гуйфэй после купания». Показательно и то, что в ее честь был назван пруд . У воды началась карьера Ян Гуйфэй, у воды она и кончилась: около реки Вэй нашла она свою могилу. Не случай-но, думается, обреченную на смерть фаворитку император проводил «до северного выезда на почтовую дорогу» и «к северу от главной до-роги» ее похоронили , ибо в китайской универсальной си-стематике воде как одному из пяти элементов соответствует страна света — север. В «Плаче», написанном после гибели Ян Гуйфэй, когда до конца обнаружилась вся серьезность миссии воды в ее судьбе, тема воды звучит с еще большей силой.
Наверное, у всех народов вода ассоциировалась с чувственно-те-лесным женским началом (см., например, у Порфирия ). Русалочья стихия воды в традиционной китайской поэзии обращалась в метафору плотской красоты, проникнутой сладостра-стием (см., например, . О тотемистических и ранне-анимистических представлениях, связанных с культом гор и рек, см. ). Для нас в данном случае важно, что эта координа-ция не только присутствовала в мифологических представлениях, но и ратифицировалась философской мыслью. В систематике соответствий «Хун фаня» естественно-физическое свойство воды течь вниз фиксируется как метафизический атрибут (чоу 1, см. ). А в «Лунь юе» направленность движения вниз уже выступает атри-бутом низких людей (XIV, 23), в последующем рассуждении своди-мых в одну категорию с женщинами (XVII, 25). Числовым символом воды является шестерка, и именно шестерка в системе «И цзина» служит стандартным обозначением женского начала инь. Как эле-мент в противопоставлении огню или почве (ту), вода образует оппо-зицию «женское—мужское». Выражение, буквально означающее «во-дяной цвет» (шуй сэ), имеет смысл — «женское телосложение, жен-ский облик». Кроме того, и «двойная тройка» некоторым образом тождественна шестерке. Связь воды и женского начала, очевидно, зиждется на общем свойстве пассивности, способности воспринимать иную форму. Вода — идеальный символ пассивности, поскольку она зеркалом своей поверхности воспринимает любые образы, а своей субстанцией заполняет любые формы. В этом смысле показательно, что в «Хун фане» утверждение «величественного образца» хун фань связывается с упорядочением «величественных вод» (хун шуй): об-разец находит в воде наилучшую восприемницу образцовости.
Образ воды в китайской философии был также традиционным символом природы человека. Начало этой традиции положила поле-мика между Мэн-цзы и Гао-цзы, в которой обе стороны признали человеческую природу (син) подобно воде, а ее сущностное качество — доброту или недоброту — подобным стремлению воды течь в ту или иную сторону. Безразличие воды к тому, течь ли ей на восток или на запад, Гао-цзы считал аналогичным безразличию человеческой природы к добру и злу. Неизбежное стремление воды течь вниз Мэн-цзы считал аналогичным неизбежной склонности к добру, при-сущей человеческой природе («Мэн-цзы», VI А, 2). Важно при этом иметь в виду, что иероглиф «син» обозначает не только вообще при-роду человека, но и более конкретно — его пол (sexus), поэтому ана-логия между син (природой) и шуй (водой) естественным образом содержит в себе фемининную характеристику; с другой стороны, иероглиф «син» в самом общем своем значении «природа» распро-страняется и на природу воды. Совершенно закономерна в этом смысле идентичность характеристик женского начала и воды в «Даодэцзине»: «Самка обычно благодаря [своему] спокойствию побеж-дает самца, [ибо] благодаря [своему] спокойствию стремится вниз» (§ 61); «В Поднебесной нет ничего более податливого и слабого, чем вода, однако среди преодолевающего твердое и сильное нет ничего, что могло бы победить ее» (§ 78). Женственность воды в этом трак-тате выражается также тем, что она уподобляется дао (§ 8), которое, в свою очередь, представляется «матерью Поднебесной» (§ 25, § 52), «матерью тьмы вещей» (§ 1).
Оба стихотворения как нельзя лучше демонстрируют торжество слабой женской природы: в Песни — физическое и реальное, в «Пла-че» — метафизическое и идеальное, т. е. торжество незабвенного образа.
Следует обратить внимание и на связь знания с радостью и на-слаждением, противоположную библейской идее: знание есть скорбь.
Дело в том, что в Китае истинным знанием традиционно считалось социально значимое (действенное) знание, а оно должно было прино-сить своему обладателю жизненный успех. Рафинированное метафи-зическое знание, лежащее вне рамок социального контекста, скажем, даосское умозрение, могло высоко цениться, проходя, однако, уже по другому разряду: самоосмысляясь как премудрое незнание, социумом оно принималось как индивидуальный стиль жизни. В самой семан-тике знака «чжи» — «знать» заключена идея социального приложе-ния в виде значения «управлять», «ведать». Используя в качестве ключа вышеприведенный афоризм Конфуция, можно заключить, что строки Ду Фу живописуют таких «знающих», которые, принципиаль-но отличаясь от гуманных, приверженцев гор, заняты активным со-циальным действием, веселятся и наслаждаются. Это значит, что созданная поэтом картина исторической действительности точно укладывается в «раму» метафизических спекуляций, стоящих за употребленными им символами.
В аспекте историко-культурных параллелей этимологическая связь русского глагола «знать» с индоевропейским корнем ĝ en «рождать(ся)» , ныне проявляющаяся в эвфемистиче-ском обороте «познать женщину» (поскольку лексика, генерирован-ная корнем ĝ en , первоначально обозначала отношения только между людьми, а не между человеком и вещью. Ср.: «Лунь юй», XII, 22: «знание есть знание людей»), достойна быть привлеченной для объяс-нения того, почему знающий любит воду. Кстати сказать, в европей-ской философской мысли также искони присутствовало понимание связи знания и любви, хотя связь эта и трактовалась весьма различ-но. Не оставляет без внимания данный вопрос и современная за-падная философия; например, в рассуждениях А. Камю о Дон-Жуане любовь представляется своеобразным знанием: «Любить и обладать, завоевывать и исчерпывать; вот его (Дон-Жуана. — А.К. ) способ познания. (Есть смысл в этом слове, излюбленном в Писании, где „познанием" называется любовный акт)» .
Завершающий Песнь (как будто неожиданный) мотив грозной опасности на самом деле доводит до логического конца ее эмоцио-нальную и метафизическую «мелодию», вновь возвращая нас к идее и образу воды, ибо, согласно «Ицзину», свойству «опасность» соот-ветствует образ «вода», единство которых скреплено единым знаком — триграммой «Кань» и ее удвоением, одноименной гексаграммой № 29 (см. ).
«Плач» так же, как и Песнь, не называет имени Ян Гуйфэй, хотя на нее направлен весь его пафос. Помимо реалий, непосредственно связанных с Ян Гуйфэй, как-то: Вьющаяся Река или Дворец Сияю-щего Солнца, на нее указывают те же пароли, что и в Песни. Опять все начинается с весны и вод, заканчиваясь обращением взгляда в «сторону воды», т. е. на север. Причем, как уже было отмечено выше, мотив воды становится еще сильнее. Это нетрудно подтвердить ста-тистически. В Песни на 181 иероглиф текста (вместе с заглавием) приходится 8 иероглифов, включающих в свой состав знак «вода» или собственно им являющихся, а в «Плаче» соответственно на 143 — 19.
(Наш подсчет основывался на чисто формальном критерий, так что причастные к влажности «рыбы» и «плач», а также символически связанный с водой «север» не учитывались.)
В «Плаче» вместо «далеких помыслов» хищных красавиц, харак-теристику которых «шу це чжэнь» можно интерпретировать не только как «сочетанье красоты и чистоты», но и как четкость и ясность на-мерений в сочетании с трезвой реалистической устремленностью, появляются «светлые зрачки». А о зрачках в «Мэн-цзы» сказано: «Из того, что заложено в человеке, нет ничего лучше зрачка. Зрачок не может скрыть его зло. Если в душе (груди) праведно, то зрачок у него ясен, если в душе неправедно, то зрачок у него мутен» (IV А, 15). Выходит, что этот, казалось бы, внешний, наружный признак содержит в себе высокую положительную оценку интеллек-туально-нравственного состояния духа.
Весьма важным нам представляется наблюдение Л. А. Никольской, замечающей, что в Песни даются описания красавиц, касающиеся только тела, но не лица, тогда как в «Плаче», наоборот, присутствует представление о лице . Действительно, в «Плаче» на фоне отсутствия каких-либо телесных описаний «зрачки и зубы» создают образ лица. Следовательно, перед нами как бы две половины китайской верительной бирки, сложение которых позволяет получить целостный образ личности Ян Гуйфэй, личности, понимаемой как единый духовно-телесный организм (шэнь), в котором также едины лицо и тело (подробнее о личности—теле—шэнь см. ).
По эмоциональному настрою «Плач» диаметрально противополо-жен Песни: в первом — минор, во второй — мажор. И по смысловой направленности стихотворения противоречат друг другу: Песнь вы-глядит изощренной сатирой на дорвавшуюся до власти, охочую до развлечений красотку и ее свиту, а «Плач» звучит печальной элегией о погибшей красавице, окруженной ореолом трагической любви. Парадоксальный по видимости контраст есть блестящее воплощение важнейшего китайского общемировоззренческого принципа — принци-па универсальной поляризованной дуальности. Всемировую диаду со-ставляют полярные силы инь и ян , моделирующие по образу и подо-бию своей связи самые разнообразные структуры и в онтологическом, и в гносеологическом, и в эстетическом плане. Взаимоотношение инь и ян не просто контрарное, оно — динамическое, причем в каждое из противоположных начал внедрено семя его антагониста. Поэтому в Песни весенний праздник «двойной тройки» радостен, а в «Плаче» весна навевает грусть, поэтому же мажорная Песнь «вдруг» оканчи-вается тревожной нотой, а минорный «Плач» «неожиданно» заклю-чается оптимистическим возгласом надежды. Столь мощный идейный модулятор, как концепция универсальной взаимопроникающей поляризованности, не только определяет взаимозависимость рассматривае-мых стихотворений, но и выступает одним из факторов высокого эстетического достоинства этой пары.
Цитированная литература
1.Антология китайской поэзии. Т. 2. М., 1957.
2.Во Цзюй-и. Песнь о бесконечной тоске. — Восток. Сб. 1. М.— Л., 1935.
3.Дзэнтику. Ян Гуй-фэй.— Восток. Сб. 1. М.— Л., 1935.
4.Древнекитайская философия. Т. 1. М., 1972; т. 2. М., 1973.
5.Каталог гор и морей (Шань хай цзин). М., 1977.
6.Кобзев А.И. О роли филологического анализа в историко-философском исследовании. — НАА. 1978, № 5.
7.Кобзев А. И. О понимании личности в китайской и европейской культу-рах.— НАА. 1979, № 5.
8.Ли Цинчжао. Строфы из граненой яшмы. М., 1974.
9.Лу Ю. Стихи. М., 1960.
10.Лэ Ши. Ян Гуйфэй. — Нефритовая Гуаньинь. М., 1972.
11.Никольская Л.А. О стихотворении Ду Фу «Красавицы». — Вестник Московского университета. Серия «Востоковедение». 1979, № 1.
12.Порфирий. О пещере нимф. — Вопросы классической филологии. Вып. VI. М., 1976.
13.Серкина А.А. Опыт дешифровки древнейшего китайского письма. М., 1973.
14.Сычев Л. П., Сычев В. П. Китайский костюм. М., 1975.
15.Тао Юань-мин. Стихотворения. М., 1972.
16.Трубачев В.Н. Древнейшие славянские термины родства. — «Вопросы языкознания». 1957, № 2.
17.Цао Е. Повесть о фаворитке Мэй. — Танские новеллы. М., 1960.
18.Чэнь Xун. Повесть о бесконечной тоске. — Танские новеллы. М., 1960.
19.Шицзин. М., 1957.
20.Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга Перемен». М., 1960.
21.Юань К э. Мифы древнего Китая. М., 1965.
22.Юэфу. Из древних китайских песен. М.— Л., 1959.
23.Даодэцзин (Канон пути и благодати).— «Лао-цзы цзинь и» («Лао-цзы» («Даодэцзин») с переводом на современный [язык]). Пекин, 1956.
24.Лунь юй и чжу («Суждения и беседы» с переводом и комментариями). Пе-кин, 1958.
25.Люй-ши чунь цю (Весны и осени господина Люя).— Чжу цзы цзи чэн (Кор-пус философской классики). Т. 6. Пекин, 1956.
26.Мэн-цзы и чжу («Философ Мэн» с переводом и комментариями). Т. 1, 2. Пекин, 1960.
27.Тан ши сань бай шоу сян си (Триста стихотворений [эпохи] Тан с подроб-ными объяснениями). Пекин, 1957.
28.Хоу Хань шу (Книга о [династии] Поздняя Хань).— Эр ши у ши («Двад-цать пять [династийных] хроник»). Т. 1. Шанхай, 1934.
29.Цы хай ([Словарь] Море слов). Шанхай, 1948.
30.Чжуан-цзы цзи цзе («Философ Чжуан» с собранием толкований).— Чжу цзы цзи чэн (Корпус философской классики). Т. 3. Пекин, 1956.
31.Camus A. Le mythe de Sisyphe. Р., 1967.
Ст. опубл.: Проблема человека в традиционных китайских учениях. М.: Наука, 1983. С. 140-152.
Откройте для себя удивительный и неповторимый мир старинной китайской поэзии! Нежная печаль от разлуки с любимыми, восхищение окружающей природой, философские размышления о жизни стали основной темой стихотворений поэтов. Они по большей части состояли на службе китайских императоров - поэтам в любые времена были нужны покровители. Мы можем восхищаться легкостью строк и прелестью образов, конечно же, благодаря трудолюбивым переводчикам с китайского, и немалая их заслуга в том, что эти стихи так прекрасны. Возможно, на китайском языке мелодика их несколько другая, как и звучание, но не все из нас владеют языком оригинала.
Китайская цивилизация – единственная цивилизация на нашей планете, которая развивалась непрерывно (все другие древние цивилизации давно прекратили свое существование), и благодаря этому создала и сохранила богатейшее культурное наследие. Письменность существовала в Китае с древних времен, а изобретение бумаги позволило сохранить «литературные жемчужины» до наших дней в неизмененном виде, в отличие от тех культур, где стихи передавались изустно, чаще всего в виде песен и претерпели значительные изменения с течением времени. Обратите внимание, насколько ярко строки рождают картинки - читаешь и сразу видишь! Словно бы поэт рисует словами картину...Очень часто встречаются цветы и растения – хризантемы, лотосы, сосны. Они также любимы китайскими художниками. Особенно поразительным мне кажется то, что большая часть дошедших стихотворений написана мужчинами! Так тонко чувствовать красоту окружающего мира могут не все женщины, и это достойно восхищения.
Один из самых великих и известных за пределами Китая поэтов является Ли Бо . Его стихи прелестны, словно акварельные рисунки. Изящный слог делает их произведениями искусства.
Смотрю на водопад в горах Лушань
За сизой дымкою вдали
Горит закат,
Гляжу на горные хребты,
На водопад.
Летит он с облачных высот
Сквозь горный лес –
И, кажется: то Млечный путь
Упал с небес.
Белая цапля
Вижу белую цаплю
На тихой осенней реке;
Словно иней, слетела
И плавает там, вдалеке.
Загрустила душа моя,
Сердце – в глубокой тоске,
Одиноко стою
На песчаном пустом острове.
Струящаяся вода
В струящейся воде
осенняя луна.
На южном озере
Покой и тишина.
И лотос хочет мне
Сказать о чем-то грустном,
Чтоб грустью и моя
Душа была полна.
Лиловая глициния.
Цветы лиловой дымкой обвивают
Ствол дерева, достигшего небес,
Они особо хороши весною –
И дерево украсило весь лес.
Листва скрывает птиц поющих стаю,
И ароматный легкий ветерок
Красавицу внезапно остановит,
Хотя б на миг, на саамы краткий срок.
Ли Бо (701 - 762) В горах Пэнлай
Еще одно имя в ряду великих поэтов – Ду Фу (712 - 770 гг.)
При виде снега
Снег с севера
Врывается в чанша,
Летит по воле ветра
Над домами.
Летит,
Листвой осеннею шурша,
И с дождиком
Мешается в тумане.
Пуст кошелек –
И не дадут в кредит
Налить вина
В серебряный мой чайник.
Где человек,
Что просто угостит?
Я жду.
Быть может, явится случайно.
Лунная ночь
Сегодняшней ночью
В Фучжоу сияет луна.
Там в спальне печальной
Любуется ею жена.
По маленьким детям
Меня охватила тоска –
Они в Чанъани
И думать не могут пока.
Легка, словно облако
Ночью, прическа жены,
И руки, как яшма,
Застыли в сиянье луны.
Когда же к окну
Подойдем мы в полуночный час
И в лунном сиянии
Высохнут слезы у нас?
Ду Фу «Прощание старика»
Ду Фу « В одиночестве»
Мэн Хаожань 
Ночую на реке Цзяньдэ
Направили лодку
На остров, укрытый туманом.
Уже вечереет, -
Чужбиною гость опечален...
Просторы бескрайни –
И снизилось небо к деревьям.
А воды прозрачны –
И месяц приблизился к людям.
Весеннее утро
Меня весной
не утро пробудило:
Я отовсюду
слышу крики птиц.
Ночь напролет
шумели дождь и ветер.
Цветов опавших
сколько – посмотри!
Се ЛинъЮнь
Закат года
Я тоскою охвачен, никак не усну.
Да и сон не избавит от горестных дум!
Лунный свет озаряет снегов пелену.
Дует северный ветер, и дик, и угрюм.
Жизнь куда-то уходит, не медля ни дня...
И я чувствую: старость коснулась меня...

Гао Ци (1336 – 1374)
Слушаю шум дождя, думаю о цветах в родном саду.
Столичный город, весенний дождь,
Грустно прощаюсь с весной.
Подушка странника холодна,
Слушаю дождь ночной.
Дождь, не спеши в мой родимый сад
И не сбивай лепестки.
Прошу, сбереги, пока не вернусь,
Цветы хоть на ветке одной.
Ночь в конце весны
Отрезвел. Пишу на прощанье стихи –
Уже уходит весна.
Мелкий дождик, увядшие лепестки,
В цвету еще ветка одна.
Дальние дали не манят взор.
Тонок трав аромат.
Путник грустит это весной
Так же как год назад.
В саду на одной ветке грушевого дерева распустились цветы.
Долго весна медлила,
Не приходила.
Нынешним утром
Цветущую ветку увидел.
Дрогнуло сердце,
Вдруг не в начале цветенья,
А на исходе,
И это – последняя ветка.
 Тао Юань-мин (4-5 вв).
Тао Юань-мин (4-5 вв).
В мире жизнь человека
Не имеет глубоких корней.
Упорхнет она, словно
Над дорогой легкая тень
И развеется всюду,
Вслед за ветром, кружась, умчится.
Так и я, здесь живущий,
Не навеки в тело одет...
Опустились на землю –
И уже меж собой мы братья:
Так ли важно, чтоб были
Кость от кости, от плоти плоть?
Обретенная радость
Пусть заставит нас веселиться.
Тем вином, что найдется,
Угостим соседей своих!
В жизни время расцвета
Никогда не приходит снова,
Да и в день тот же самый
Трудно дважды взойти заре.
Не теряя мгновенья.
Вдохновим же себя усердьем,
Ибо годы и луны
Человека не станут ждать!
Ли Цзинчжао, кит. поэтесса 12 века
Хризантема
Твоя листва - из яшмы бахрома-
Свисает над землей за слоем слой,
Десятки тысяч лепестков твоих,
Как золото чеканное горят...
О, хризантема, осени цветок,
Твой гордый дух, вид необычный твой
О совершенстве доблестных мужей
Мне говорит.
Пусть утопает мэйхуа в цветах,
И все же слишком прост ее наряд.
Цветами пусть усыпана сирень –
И ей с тобою спорить не легко...
Нисколько не жалеешь ты меня!
Так щедро разливаешь аромат,
Рождая мысли грустные о том.
Кто далеко.
Ван Вэй 
Поток у дома господина Луань
Свищет-хлещет
Ветер в дождь осенний.
Плещет-плещет
Меж камней теченье.
Разбиваю,
Впрыгнув, волны в капли...
Вновь слетает
Спугнутая цапля.
Гу Кайчжи
Четыре времени года
Весенней водою
Озера полны,
Причудлива в летних
Горах тишина.
Струится сиянье
Осенней луны,
Свежа в одиночестве
Зимнем – сосна.
Лу Чжао-линь
Лотосы на прудке с излучинами
Над извилистыми берегами
Дивный запах кружит, проплывает
Очертанье лотосов кругами.
Весь прудок заросший покрывает.
Все-то я боялась, что дунет ветер
Осени на листья слишком рано...
Только ты б, мой друг, и не заметил,
Как они, опав, закружат странно.

ТАО ЦЯНЬ
Краски цветенья
Нам трудно надолго сберечь.
Дни увяданья отсрочить не может никто.
То, что когда-то
Как лотос весенний цвело,
Стало сегодня осенней коробкой семян...
Иней жестокий
Покроет траву на полях.
Сникнет, иссохнет,
Но вся не погибнет она!
Солнце с луною
Опять совершает свой круг,
Мы не уходим,
И нет нам возврата к живым.
Сердце любовью
К прошедшим зовет временам.
Вспомни об этом –
И все оборвется внутри!
БАО ЧЖАО
Потемневшее небо
Затянуло сплошной пеленой,
И потоками хлынул
Нескончаемый дождь проливной.
В облаках на вечернем закате
И проблеска нет,
В моросящих потоках
По утрам утопает рассвет.
На тропинках лесных
Даже зверь не оставит следа,
И замерзшая птица
Без нужды не покинет гнезда.
Поднимаются клубы тумана
Над горной рекой,
Набежавшие тучи
Садятся на берег крутой.
В непогоду приюта
У бездомного нет воробья,
Сиротливые куры
Разбрелись у пустого жилья.
От сплошного ненастья
Разлилась под мостками река,
Я подумал о друге:
Как дорого его далека!
Я напрасно старюсь
Утолить мою горечь вином,
Даже звонкая лютня
Не утешит в печали о нем.